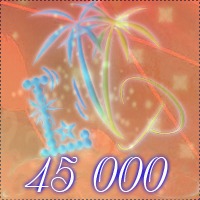В эти напряжённые периоды он лежал тихо. Так было мудрее. Если не верите, вспомните, что случилось с Дорси. Эдди не знал деталей о Дорси и не хотел знать, но у него было своё представление об этом. Дорси, так он считал, оказался не там, где нужно и когда не нужно, — в гараже в последний день месяца. Эдди сказали, что Дорси свалился с лестницы в гараже: «Ну ведь не единожды я ему говорил не подходи к ней, а шестьдесят раз говорил», — сказал отчим. Его мать не смотрела на него, только нечаянно… когда глаза их таки встретились, Эдди уловил испуганный, жалкий, слабый отблеск в её глазах, который ему не понравился. Старик как раз тихо сидел за кухонным столом с квартой «Рейнгольда», глядя в пространство из-под тяжёлых опущенных век. Эдди держался вне поля его зрения. Когда отец орал, с ним обычно — не всегда, но обычно — было всё в порядке. Вот когда он останавливался, надо было быть осторожным.
Два дня назад, ночью, он бросил стулом в Эдди, когда Эдди встал посмотреть, что идёт по другой программе телевидения. Он просто поднял один из полых алюминиевых кухонных стульев, размахнулся им и запустил в Эдди. Удар угодил в зад и чуть повыше. Зад у него болел до сих пор, но ведь могло быть хуже — могла быть голова.
Потом как-то ночью старик вдруг встал и ни с того ни с сего втёр пригоршню картофельного пюре в волосы Эдди. А однажды, в сентябре прошлого года, Эдди пришёл из школы и с шумом закрыл за собой дверь, когда его отчим дремал. Маклин вышел из спальни в грубых боксёрских шортах, волосы у него стояли торчком, щёки заросли двухдневной щетиной, дыхание отдавало пивным перегаром после двухдневных возлияний. «Ну, Эдди, — сказал он, — я должен взяться за тебя, за то что ты хлопаешь этой дерьмовой дверью». В лексиконе Рича Маклина «взяться» было эвфемизмом «выбить из тебя дерьмо». Что он и сделал потом с Эдди. Эдди потерял сознание, когда старик бросил его в холл. Мать низко прибила там пару крючков, специально, чтобы они с Дорси вешали пальто. Эти жёсткие стальные крючки врезались в нижнюю часть спины Эдди, и он отключился. Когда через десять минут он пришёл в себя, то услышал, как мать кричит, что она поведёт Эдди в больницу, и он не сможет удержать её.
— После того, что случилось с Дорси? — отреагировал отчим. — Ты хочешь пойти в тюрьму, женщина?
Это был конец их разговора. Она помогла Эдди пройти в его комнату, где он, дрожа, лёг в постель, лоб его был покрыт каплями пота. В следующие три дня, он единственный раз вышел из комнаты, когда оба они ушли. Он поплёлся на кухню, охая и постанывая, и вытащил из-под раковины виски отчима. Несколько глотков притупили боль. К пятому дню боль в основном ушла, но ещё почти две недели он писал кровью.
И молотка в гараже больше не было.
Как насчёт этого? Как насчёт этого, друзья и близкие?
О, молоток Мастерового — обычный молоток — был всё ещё там. Не хватало «Скотти» с длинной ручкой. Особого молотка их отчима, молотка, который ему и Дорси запрещалось трогать. «Если вы дотронетесь до этого ребетенка, — сказал он им в тот день, когда купил его, — ваши кишки будут висеть на ваших ушах». Дорси робко спросил, очень ли дорогой этот молоток. Старик сказал ему, что он, чёрт возьми, со звуком. Что он наполнен шарикоподшипниками и его невозможно ни при каких условиях заставить отскочить назад.
Теперь молотка не было.
Оценки у Эдди были не блестящие, потому что он пропустил много занятий со времени второго замужества матери, но он ни в коем случае не был глупым мальчиком. Он полагал, что знает, куда делся молоток с длинной ручкой (без отдачи), «Скотти». Отчим, вероятно, попробовал его на Дорси, а затем захоронил в саду или, может быть, бросил в Канал. Такое часто случалось в комиксах ужасов, которые Эдди читал, комиксах, которые он держал на верхней полке своего шкафчика.
Эдди подошёл ближе к Каналу, который журчал между своими бетонными берегами, как промасленный шёлк. Полоска лунного света в виде бумеранга мерцала на его тёмной поверхности. Он сел, болтая ногами и ударяя ими по бетону. Последние шесть недель было сухо, и вода текла футов на девять ниже драных подошв его спортивных туфель. Но если взглянуть поближе на берега Канала, то видно, что вода часто меняла там уровни. Нынешний уровень воды был отмечен тёмно-коричневой краской на бетоне. Коричневое пятно постепенно переходило в жёлтое, затем почти в белый цвет на том уровне, где прикасались пятки спортивных туфель Эдди, когда он болтал ногами.
Вода ровно и спокойно вытекала из бетонной арки, вымощенной булыжникам с внутренней стороны, текла мимо того места, где сидел Эдди, а затем вниз, к крытому деревянному мостику между Бассей-парком и средней Дерри. Стороны моста и дощатое основание, даже балки под сводом, всё было сплошь покрыто узорами из инициалов, телефонных номеров, воззваний, разного рода; объявлений, касающихся любви; хотят «сосать» и «трахаться»; заявлений, что те, кого обнаружат сосущими и трахающимися, потеряют свою крайнюю плоть или им заткнут жопы горячей смолой; случайными эксцентричными воззваниями, смысл которых был непонятен. Одно из них озадачило Эдди этой весной: «СПАСАЙТЕ РУССКИХ ЕВРЕЕВ! СОБИРАЙТЕ ЦЕННЫЕ НАГРАДЫ!»
Что конкретно это означало? И означало ли?
Сегодня вечером Эдди не пошёл в Киссинг-Бридж. У него не было желания переходить на другую сторону. Он подумал, что, возможно, поспит в парке на опавших листьях под насыпью, но пока здорово было просто сидеть здесь. Он любил парк и приходил сюда часто, когда ему надо было подумать. Иногда в парке появлялись люди, но они не трогали Эдди, и он их не замечал. Он слышал мрачные истории на школьной площадке о странностях, которые происходили в Бассей-парке после захода солнца, и он принимал эти истории без всяких вопросов, но это никогда его не озадачивало. Парк был мирным местом, и он считал, что лучшая его часть была именно здесь, где он сейчас сидел. Ему нравилось бывать здесь в середине лета, когда вода, такая низкая, усмехаясь текла над камнями и разбивалась на отдельные ручейки, которые извивались, расходились и сходились снова. Он любил Канал в конце марта или начале апреля, сразу после ледохода, тоща он обычно стоял у Канала (сидеть было слишком холодно, зад отмёрзнет) час или больше, шкура его старой парки, из которой он уже года два как вырос, задиралась, руки были засунуты в карманы, и он не осознавал, что его тощее тело трясётся и дрожит. Канал обладал ужасной, необоримой силой недели через две после того, как сходил лёд. Эдди был очарован тем, как вода бурлит и клокочет, вздымая белую пену, мчится из-под покрытой булыжником арки, неся палки и ветки, и всякого рода человеческие отбросы. Не раз он представлял себе, как гуляет в марте по берегу Канала с отчимом и с огромной силой толкает туда ублюдка. Тот кричит и падает, раскинув руки для равновесия, а Эдди стоит на бетонном парапете и смотрит, как того несёт потоком вниз по течению, его голова — что-то чёрное, болтающееся в середине белого, неистового, непокорного потока. А он, Эдди, наверху, приложив руки трубочкой ко рту, кричит: «ЭТО ЗА ДОРСИ, ВОНЮЧИЙ ПИДОР! КОГДА ТЫ ОКАЖЕШЬСЯ В АДУ, СКАЖИ ДЬЯВОЛУ, ЧТО ПОСЛЕДНЕЕ, ЧТО ТЫ УСЛЫШАЛ, ЭТО ЧТО Я СКАЗАЛ ТЕБЕ, ЧТОБЫ ТЕБЯ ЗАТРАХАЛИ!» Такое никогда не случится, конечно, но фантазия была великолепная. Великолепная мечта — когда ты сидишь здесь у Канала и…
Какая-то рука приблизилась к ноге Эдди.
Он смотрел через Канал в направлении школы, улыбаясь сонной и прекрасной улыбкой, когда представил себе, как его отчима уносит бурным весенним потоком, навсегда уносит из его жизни. Мягкое, но довольно сильное пожатие напугало его так сильно, что он почти потерял равновесие и чуть не упал в Канал.
«Это один из чудиков, о которых говорят большие парни», — подумал он, и посмотрел вниз. Его рот открылся. Моча полилась жаркой струйкой по ногам и пачкая его джинсы чёрным при лунном свете. Это был не чудик.
Это был Дорси. Это был Дорси, такой, каким его похоронили, Дорси в своём голубом блейзере и серых штанишках, только теперь блейзер был в грязных клочьях, рубашка Дорси — жёлтые тряпки, штаны Дорси мокро болтались вокруг ног, тонких, как метловище. И голова Дорси была жутко сложена, как будто она была выдолблена в спине и постепенно протолкнута вперёд.
Дорси широко улыбался.
«Эддиииии», — квакал его мёртвый брат, подобно тем мертвецам, которые всегда возвращаются из могилы в комиксах ужасов. Улыбка Дорси ширилась. Жёлтые зубы сверкали, а там, в темноте, казалось, что-то корчится.
«Эддишии… Я пришёл повидать тебя Эдддддддииии…»
Эдди пробовал закричать. Волны ужаса накатили на него, появилось странное ощущение, что он плывёт. Но это был не сон, он бодрствовал. Рука на тапке была белая, как брюхо форели. Босые ноги брата как-то цеплялись за бетон. Что-то откусило одну из пяток Дорси.
«Иди вниз Эддииииии…»
Эдди не мог кричать. Его лёгким не хватало воздуха. Он издал смешной пронзительный стонущий звук. Громче не получалось. Именно так. Через секунду-другую его мозг уснёт и тогда ничто не будет иметь значения. Рука Дорси была маленькая, но жёсткая. Зад Эдди сползал по бетону к краю Канала.
Всё ещё издавая этот пронзительный стонущий звук, он повернулся, схватился за бетонный край и подался назад. Он почувствовал, как рука моментально соскользнула, услышал сердитый свист и успел подумать: «Это не Дорси. Я не знаю, что это, но это не Дорси». Затем адреналин наполнил его тело, и он сполз, пытаясь бежать даже перед тем, как встал на ноги; дыхание его перешло в короткий пронзительный свист.
На бетонных губах Канала появились белые руки. Послышался мокрый шлёпающий звук. Капли воды стекали в лунный свете мёртвой бледной кожи. Теперь над краем появилось лицо Дорси. Тусклые красные искорки мерцали в его запавших глазах. Его мокрые волосы приклеились к черепу. Грязь стекала по щекам, как косметика.
Наконец грудь Эдди раскрылась. Он поймал дыхание и обратил его в крик. Он встал на ноги и побежал. Он бежал, оглядываясь через плечо, желая увидеть, где Дорси, и в итоге с разбегу наткнулся на большой вяз.
Ощущение было такое, будто кто-то, его старик, например, заложил динамитный заряд в его левое плечо. Звёзды стреляли и свербили в его голове. Он упал у подножия дерева, как подкошенный алебардой, кровь струилась из его левого виска. Он плыл водами полусознания в течение девяноста секунд. Затем он ухитрился опять встать на ноги. Стон вышел из него, когда он попытался поднять свою левую руку. Она не хотела подниматься. Немая и далёкая. Поэтому он поднял правую и потёр неистово болевшую голову.
Потом он вспомнил, зачем он бежал к вязу, и осмотрелся.
Край Канала был, как кость, белый, и как струна в лунном свете, прямой. Никакого признака ТОГО… если когда-либо было ТО. Он повернулся, медленно повернулся на триста шестьдесят градусов. Бассей-парк был молчаливым и спокойным, как чёрно-белая фотография. Плакучие ивы тянули свои тонкие красивые руки, и всё что угодно могло стоять, вывернутое и безумное, под их укрытием.
Эдди пошёл, озираясь. Его ушибленное плечо болезненно пульсировало в такт с сердцем.
«Эддиииии, — стонал ветер в деревьях, ты не хочешь меня видеть, Эддиииии?»
Он чувствовал, как слабые пальцы трупа ласкают его шею. Он извивался, его руки поднимались вверх. Когда ноги его соединились вместе и он упал, то увидел, что это просто лёгкий ветерок шелестит листьями ивы.
Он снова встал. Он хотел бежать, но когда попытался это сделать, ещё один динамитный заряд вошёл в его плечо, и вынудил остановиться. Он каким-то задним чувством преодолел свой страх. «Глупый маленький ребёнок, ты просто испугался отражения или, может быть, нечаянно уснул и видел плохой сон», — уговаривал он сам себя. Хотя в действительности было совсем не так. Его сердце теперь билось так быстро, что он не различал отдельных ударов и чувствовал, что скоро это выльется в страх. Бежать он не мог, но выйдя из ив, хромая, сделал несколько шагов.
Он устремил глаза на уличную лампочку, которая отмечала главные ворота парка. Он направился туда, немного ускоряя шаг и думая: «Сейчас я возьму налево, и всё будет в порядке. Я возьму налево, и всё будет в порядке. Яркий свет, не страшно, в ночь, какое зрелище…»
Что-то сопровождало его.
Эдди слышал, как оно проходило через ивовую рощицу. Если бы он обернулся, он бы увидел. Оно подходило. Он мог слышать его шаги, какое-то фырканье, большие шаги, но он не смотрел назад, нет, он смотрел вперёд на свет, свет был о'кей, он просто продолжает свой полёт к свету, он был уже почти что там, почти…
Запах — вот что заставило его посмотреть назад. Ошеломляющий запах, как будто рыбу оставили гнить в большой куче, и она превратилась в скользкую падаль на летней жаре. Это был запах мёртвого океана.
Теперь за гам не было Дорси; то было Существо из Чёрной Лагуны. Рыло Существа было длинное и плиссированное. Зелёный поток выходил из чёрных пастей, похожих на вертикальные рты в его щеках. Его глаза были белые и желейные. Его сплетённые пальцы заканчивались когтями, острыми как бритвы. Его дыхание было пенящееся и глубокое, звук ныряльщика с плохим регулятором. Когда оно увидело, что Эдди смотрит, его зелёно-чёрные губы сморщились, обнажив огромные клыке в мёртвой и свободной улыбке.
Оно тащилось за ним, капая, и Эдди внезапно понял. Оно хотело утащить его обратно в Канал, унести его в черноту подземного прохода Канала. Сожрать его там.
Эдди прибавил шагу. Натриевый свет на воротах приближался. Он мог видеть жучков и мотыльков в его сиянии. Мимо прошёл грузо