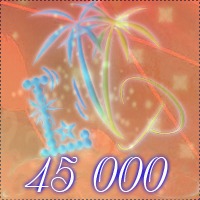Одра не могла теперь вспомнить, были ли предсказания девушки хорошими или плохими, мудрыми или глупыми: ей было очень хорошо в тот вечер. Но она помнила, что в какой-то момент девушка схватила ладонь Билла и, сравнив её со своей собственной, заявила, что они совершенно одинаковые. «Мы близнецы в жизни», сказала она. Одра помнила: она более чем ревниво следила за тем, как девушка водила по линиям на его ладони своим великолепно накрашенным ногтем — как глупо это было, в миражном киномире, в этой киношной субкультуре, где мужчины так же запросто, обыденно похлопывают женские попки, как нью-йоркцы трогают свои щёки! Но в исследовании гадалки было что-то интимное, затянувшееся.
Тогда на ладонях Билла не было никаких маленьких белых шрамов.
Она наблюдала за этой шарадой глазами ревнивой возлюбленной, и она доверяла этому воспоминанию. Доверяла ФАКТУ.
И сейчас сказала это Биллу.
Он кивнул. — Ты права. Их тогда не было. И хотя я не могу поклясться в этом, думаю, их не было и прошлой ночью, в «Плоу и Барроу». Мы стали меряться руками на пиво и, я думаю, я бы заметил.
Он усмехнулся. Усмешка была сухой, лишённой юмора, испуганной.
— Я думаю, они вернулись, когда позвонил Майкл Хэнлон. Вот что я думаю.
— Билл, это невозможно. — Она потянулась за сигаретами.
Билл смотрел на свои руки. — Стэн сделал это, — сказал он. — Разрезал ладони осколком бутылки из-под «Кока-колы». Теперь я отчётливо вспоминаю это. — Он посмотрел на Одру, и глаза его за очками выглядели больными, непонимающими.
— Я помню, как этот кусок стекла мерцал на солнце. Он был от новой бутылки, прозрачный. Раньше бутылки «Кока-колы» были зелёными, ты помнишь?
— Она покачала головой, но он не видел. Он всё ещё изучал свои ладони. — Я помню, что Стэн резал свои руки последним, притворяясь, будто намерен не просто надрезать ладони, а полоснуть по запястью. Я думаю, это была глупость, но я подался к нему… чтобы остановить его. Потому что секунду-две он выглядел серьёзным.
— Билл, не надо, — сказала она низким голосом. На этот раз, чтобы зажигалка не дрожала в руке, ей понадобилось обхватить запястье другой рукой — так полицейский держит пистолет на стрельбище. — Шрамы не могут возвращаться. Они или есть, или их нет.
— Ты их видела раньше, а? Ты это говоришь мне?
— Они едва заметны, — сказала Одра резче, чем хотела.
— Мы истекали кровью, — сказал он. — Мы стояли в воде недалеко от того места, где Эдди Каспбрак, Бен Хэнском и я построили плотину…
— Ты имеешь в виду архитектора, да?
— Есть архитектор с таким именем?
— Боже, Билл, он построил новый центр связи Би-би-си! И до сих пор ведутся споры, мечта это или неудача!
— Ну, я не знаю, тот же это парень или нет. Это кажется невероятным, но кто знает. Тот Бен, которого я знал, классно строил. Мы все стояли там, и я держал левую руку Бев Марш в своей правой, и правая рука Ричи Тозиера была в моей левой. Мы стояли в воде, как будто принимали крещение, и на горизонте я видел деррийскую водонапорную башню.
Она была такой белой, какой представляется воображению одеяние архангелов, и мы пообещали, поклялись, что если это не кончилось, что если это возобновится, мы вернёмся. И мы бы сделали это. И остановили. Навсегда.
— Остановили ЧТО? — закричала она, внезапно разъярившись на него. — Что остановили? Что за чушь ты несёшь?
— Лучше бы ты не спрашивала… — начал Билл и остановился. Она увидела, как выражение ужаса распространяется по всему его лицу, как пятно. — Дай сигарету.
Она протянула ему пачку. Он закурил. Она никогда не видела, чтобы он курил.
— Я ещё и заикался.