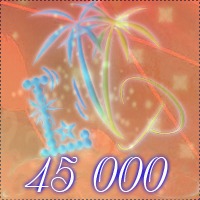В дождливые дни Мира всегда вытаскивала его галоши из пластикового мешочка в клозете и ставила их около вешалки радом с дверью. Около его тарелки с не намазанным маслом пшеничным тостом каждое утро стояло блюдо чего-то напоминающего многоцветные воздушные хлопья и что при ближайшем рассмотрении оказывалось целым спектром витаминов (многие из которых Эдди уносил сейчас в своей аптечке). Мира, как и мать, понимала его, и все возможности для него фактически были закрыты. Будучи молодым неженатым человеком, он трижды уходил от матери и трижды возвращался в её дом. Затем, четыре года спустя после того, как мать умерла в первом зале своих королевских апартаментов, полностью заблокировав своей тушей переднюю дверь, так что парням из морга пришлось пробиваться чёрным ходом между кухней и служебной лестницей, он вернулся домой в четвёртый и последний раз. По крайней мере, он поверил, что в последний — снова дома, снова дома, с Мирой — толстой жирной свиньёй. Да, толстой жирной свиньёй, но любимой, дорогой свиньёй, он любил её, и никакой другой возможности у него вообще не было. Она приворожила его к себе фатальной, гипнотизирующей мудростью.
«Снова дома навсегда», — думал он тогда.
«Но, может, я не прав, — размышлял он. — Может, это не дом и никогда не был им, может дом — это куда я должен идти сегодня ночью. Дом — это место, где, когда ты идёшь туда, оказываешься в конце концов лицом к лицу с тем, что в темноте».
Он беспомощно поёжился, как будто бы вышел на улицу без галош и схватил страшную простуду.
— Эдди, пожалуйста.
Она снова начала рыдать. Слёзы служили ей обороной, так же, как матери — защитой: нежное оружие, которое парализует, которое превращает доброту и нежность в неизбежные прорехи в вашей броне.
Не то чтобы он изнашивал много брони — броня, по-видимому, не шла ему.
Слёзы были больше, чем защита, для его матери, они были оружием. Мира редко столь цинично использовала слёзы, но, так или иначе, он понимал, что сейчас она пытается использовать их… а в этом она преуспевала.
Он не мог уступить ей. Слишком большим искушением было поддаться мыслям о том, как одиноко будет ему в поезде, сквозь темноту летящим в Бостон — чемодан над головой, сумка, набитая лекарствами, между ног, страх сжимает грудь. Слишком просто разрешить Мире забрать его наверх и делать с ним любовь при помощи аспирина и алкоголя. И уложить его в постель, где они — то ли да, толи нет — занимались бы любовью более откровенно.
Но он обещал. ОБЕЩАЛ.
— Мира, послушай меня, — сказал он намеренно сухо и прозаично.
Она смотрела на него своими мокрыми, искренними, испуганными глазами.
Он думал, что сейчас попытается как можно лучше всё ей объяснить: позвонил мол Майк Хэнлон и сказал ему, что это началось снова, что другие снова приезжают.
Но то, что вышло из него оказалось куда более здравой ерундой.
— Поезжай в офис — это первое, что нужно сделать утром. Поговори с Филом. Скажи ему, что я должен был уехать и что ты повезёшь Пасино…
— Эдди, я просто не могу! — закричала она. — Он ведь большая звезда! Если я заблужусь, он будет кричать на меня, я знаю, будет, он будет кричать, они все кричат, когда водитель не знает дорогу… может быть несчастный случай… наверняка будет несчастный случай… Эдди… Эдди, ты должен остаться дома…
— Ради бога, прекрати это!
От его голоса она отшатнулась, как будто её ударили; Эдди схватил свой аспиратор, но не воспользовался им. И она тот час усмотрела в том его слабость, слабость, которую могла бы использовать против него. О Боже, если Ты есть, пожалуйста, поверь мне, я в самом деле не хочу обидеть Миру. Я не хочу зарезать её, даже толкнуть её не хочу. Но я обещал, мы все клялись кровью, пожалуйста, помоги мне. Господи, потому что я должен сделать это…
— Я терпеть не могу, когда ты кричишь на меня, — прошептала она.