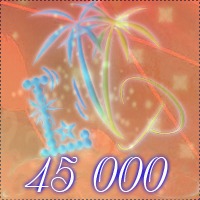— Это единственное, что вы могли подцепить, сеньор, — сказал Ричи довольно дружелюбно, и это было всё.
Бен думал, что сумасшедшая интерлюдия в доме на Нейболт-стрит уже кажется сном. Он забудется, сотрётся из памяти, — думал он, — как стираются из памяти дурные сны. Ты просыпаешься, тяжело дыша и обливаясь потом, а через пятнадцать минут не можешь вспомнить, что тебе снилось.
Но этого не случилось. Всё, что произошло, с того момента, как он пролез через подвальное окно, до момента, когда Билл разбил кухонное окно стулом, чтобы они могли выйти, оставалось ярким и чётким в его памяти. Это не был сон. Рана с запёкшейся кровью на груди и животе не была сном, и не имело значения, увидит ли её мать или нет.
Наконец Беверли встала.
— Я должна идти домой, — сказала она. — Хочу переодеться до того, как мама вернётся. Если она увидит меня в мальчишечьей рубашке — убьёт.
— Убьёт, сеньорита, — согласился Ричи, — но она будет убивать вас медленно.
— Би-би, Ричи.
Билл смотрел на неё серьёзно.
— Я верну твою рубашку, Билл.
Он кивнул и махнул рукой, чтобы показать, что это неважно.
— Тебе не влетит, если ты придёшь домой без неё?
— Ннет. Они еддва мменя замечают, ккогда я ррядом. Она кивнула, закусив свою полную нижнюю губу — девочка одиннадцати лет, высокая для своего возраста и уже прекрасная.
— Что будет дальше, Билл?
— Я ннне зззнаю.
— Это ведь не кончилось, так? Билл покачал головой. Бен сказал:
— Теперь Оно захочет нас больше, чем когда-либо.
— Опять серебряные пули? — спросила она его. Он понял, что с трудом может вынести её взгляд. Я люблю тебя, Беверли… разрешимне только это. У тебя может быть Билл или весь мир, или всё, что тебе нужно… Дай мне только это, позволь мне продолжать любить тебя, и я думаю, этого будет достаточно.
— Я не знаю, — сказал Бен. — Мы могли бы, но… — Он медлил с ответом, пожав плечами. Он не мог сказать, что он чувствовал, как-то не мог это выразить — это было, как в фильме с чудищем, но это ведь не так. Мумия выглядела очень живой… что подтверждало её реальность. То же самое в отношении Оборотня — он мог… мог свидетельствовать об этом, потому что он видел его не в фильме, он чувствовал в руках его жёсткие спутанные волосы, видел маленькое, злобно-оранжевое огненное пятно (как помпон!) в одном из Его зелёных глаз. Эти вещи были… ну… они были сонно-реальными. А когда сны становились реальными, они уходили из-под власти спящего и начинали жить своей, мёртвой жизнью, способные к самостоятельным действиям. Серебряные шарики действовали, потому что эти семеро ребят были едины в своей вере, что они будут действовать. Но шарики не убили Его. И в следующий раз Оно явится к ним в новом обличье, над которым серебро не властно.
Власть, власть, — подумал Бен, глядя на Беверли. Сейчас всё было в порядке; её глаза встретили опять глаза Билла, и они смотрели друг на друга, как потерянные. Это длилось только мгновение, но Бену оно показалось вечностью.
Все всегда стремятся к власти. Я люблю Беверли Марш, и она имеет власть надо мной. Она любит Билла Денбро, и поэтому он имеет над ней власть. Но я думаю, и он начинает любить её. Может быть, это из-за её лица, каким оно было, когда она говорила, что не виновата, что она девочка. Может быть, её грудь, которую он видел всего лишь одну секунду. Может быть, просто то, как, она иногда выглядит при хорошем свете, или её глаза. Не имеет значения. Но если он начинает любить её, она начинает иметь над ним власть. Супермен имеет власть, но лишь когда творит добрые дела. Бэтмен имеет власть, но даже он не может летать или видеть сквозь стены. Моя мама имеет власть надо мной. А её хозяин на заводе имеет власть над ней. Все имеют какую-то власть… кроме, может быть, маленьких детей.
Затем он подумал, что даже маленькие дети имеют власть: они могут кричать до тех пор, пока вы не сделаете что-нибудь, чтобы они замолчали.
— Бен? — спросила Беверли, снова глядя на него. — Ты что язык проглотил?
— А? Нет. Я думал о власти. Власти… «шариков». Билл внимательно посмотрел на него.
— Я думал, откуда приходит власть, — признался Бен.
— Оооооно… — начал Билл и закрыл рот. Выражение задумчивости появилось на его лице.
— Я действительно должна идти, — сказала Беверли. — Ведь мы увидимся, а?
— Конечно, приходи сюда завтра. Мы будем ломать вторую руку Эдди, — сказал Стэн.