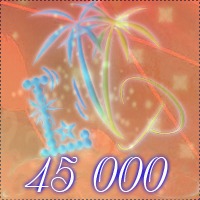Они были белыми… когда она подошла к двери, она улыбнулась и ты удивилась про себя, какие они белые.
Вдруг она уже не немного, а по-настоящему испугалась. Ей хотелось — ей было необходимо — оказаться как можно дальше от, этого места.
— Очень старая вещь, — воскликнула миссис Керш и выпила свою чашку одним глотком с каким-то неприятным хлюпающим звуком. Она улыбнулась Беверли, — нет, усмехнулась, — и Беверли увидела, что её глаза тоже изменились. Уголки глаз тоже стали жёлтыми, древними, с красными прожилками. Её волосы стали редеть, они уже были не белыми с жёлтыми прядями, а неприятно грязно-седыми.
— Очень старая вещица, — миссис Керш перевернула свою пустую чашку, хитро глядя на Беверли своими жёлтыми глазами. — Приехала со мной с родины. Вы заметили инициалы Р. Г.?
— Да, — её голос, казалось, доносился откуда-то издалека, а в мыслях было одно: Если она не узнает, что я заметила перемену в ней, возможно, всё будет хорошо, если она не увидела, если она не узнает…
— Мой папа, — сказала она, произнося, как «бапа», и Беверли отметила, что её платье тоже изменилось. Оно стало топорщиться, сделалось чёрным. Камея превратилась в скальп, с широко разинутыми челюстями, как будто зевающими. — Его звали Роберт Грей, лучше известный, как Боб Грей, а ещё лучше, как Пеннивайз Танцующий Клоун. Хотя это было не его имя тоже. Но он по-настоящему любил хорошую шутку, мой бапа. — Она снова рассмеялась, некоторые её зубы стали такими же чёрными, как и её платье. Морщины на лице стали глубже. Её нежно-розовая кожа превратилась в болезненно жёлтую. Руки скрючились в когтистые лапы. Она ухмыльнулась:
— Съешь что-нибудь, дорогая, — тон её голоса поднялся на пол-октавы, но в этом регистре он начал хрипеть и походил на скрип плохо смазанных дверей.
— Нет, спасибо, — Беверли слышала, что её голос похож на голос маленькой девочки — которой — нужно — уходить. Казалось, она сама не понимает, что говорит.
— Нет? — спросила ведьма и ухмыльнулась. Её когти заскребли по тарелке, и она стала запихивать в себя всё, что лежало на ней, обеими лапами. Её чудовищные зубы чавкали и грызли, чавкали и грызли, её длинные чёрные когти вцепились в конфеты, крошки прилипли к её подбородку. Её смердящее дыхание напоминало давно гниющий труп. Её смех походил на кваканье лягушки. Волосы выпадали. Оскаленный скальп клацал зубами.
— О, мой бапаша любил пошутить. Это всё шуточки, мисс, нравится? Это бапаша родил меня, а не бамаша. Он витащил миня из своей задницы! Хи-хи-хи!!!
— Мне нужно идти, — Беверли слышала свой слабый тонкий голос — голос маленькой девочки, которую впервые прижали на вечеринке. Ноги её ослабли. Она была почти уверена, что вместо чая она пила дерьмо, жидкое дерьмо из канализационных труб под городом. Она уже выпила немного, почти глоток. О, Боже, Боже, Господи, Иисусе Христе, помилуй меня! Пожалуйста, пожалуйста…
Женщина раскачивалась у неё перед глазами, уменьшаясь в размерах, — сейчас это была старая карга с головкой величиной с яблоко, которая сидела перед ней, раскачиваясь взад и вперёд, взад и вперёд.
— О, мой бапаша и я — это одно целое, — говорила она, — как я, так и он, и, дорогая, если ты умная, беги отсюда, беги откуда пришла, потому что, если ты останешься — это будет хуже смерти. Ни один человек, умерший в Дерри, по-настоящему не умер. Ты знала это прежде, поверь, это так.
Как в замедленной съёмке Беверли подтянула ноги, как бы со стороны наблюдая за собой; она видела, как она вытягивает ноги из-под стола и от ведьмы в агонии от ужаса и не веря, ничему не веря, потому что она поняла вдруг, что уютная маленькая столовая — это вымысел. Даже видя ведьму, всё ещё хихикающую, хитро смотрящую своими древними жёлтыми глазами в угол комнаты, она видела, что белые чашки сделаны из кожи, содранной с синего замёрзшего трупа.
— Мы все ждём тебя, — скрипела ведьма, а её когти скребли по столу, оставляя на нём глубокие полосы. — О, да, да!
Лампы над головой обернулись шарами, сделанными из засахаренных леденцов. Деревянные панели были сделаны из карамели. Она посмотрела вниз и увидела, что её туфли оставляют следы на паркете, который не был паркетом, а состоял из кусков шоколада. Запах сладостей вызывал отвращение.
О, Боже! Да это же ведьма Гензеля и Гретель, та самая, которой я боялась больше всего, потому что она пожирала детей.
— Ты и твои друзья, — скрипела ведьма, смеясь. — В пещеру! В печку — пока горячая! — Она смеялась и скрипела. А Беверли побежала к двери, но бежала, как во сне, медленно. Голос ведьмы сверлил ей мозг. Беверли передёрнуло. Холл был выложен из сахара и нуги, карамели и клубничного повидла. Ручка двери, сделанная из поддельного кристалла, когда она вошла сюда, превратилась в чудовищный сахарный алмаз.