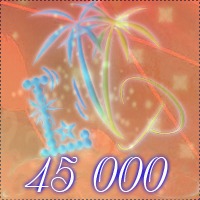— Нет, нет, не пойду! — взмолилась она и обеими руками схватилась за голову. — Мама, мамочка, не могу я такая в школу, там же сестра Агата!
— Прекрасно можешь, — сказала мать, Фрэнк посмотрел просительно, но она словно и не заметила. — Вперед будешь умнее.
И повязала голову Мэгги коричневым ситцевым платком, и поплелась она в школу, еле передвигая ноги. Сестра Агата ни разу не взглянула в ее сторону, но на перемене девочки сдернули платок, чтобы посмотреть, на что она теперь похожа. Лицо Мэгги почти не пострадало, но коротко стриженная голова с воспаленной, разъеденной кожей выглядела устрашающе. Тут подоспел на выручку Боб и увел сестру в тихий уголок — на крикетную площадку.
— Плюнь на них. Мэгги, не обращай внимания, — сердито сказал он, опять неумело повязал ей голову платком, похлопал по закаменелым плечам. — Они просто ведьмы. Жаль, я не догадался прихватить у тебя с головы несколько штук про запас. Только бы эти злюки зазевались, я бы им подпустил в космы.
Подошли младшие мальчики Клири и до самого звонка сидели и стерегли сестру.
Тереза Аннунцио забежала в школу только на большой перемене, голову ей дома обрили. Она хотела поколотить Мэгги, но, конечно, мальчики не дали. Отступая, она высоко вскинула правую руку со сжатым кулаком, а левой похлопала по бицепсу — загадочный ворожейный знак, никто его не понял, но всем мальчикам понравилось — надо перенять!
— Ненавижу тебя! — закричала Тереза. — Твой отец моему все испортил, теперь нам придется отсюда уехать! — И она, рыдая, убежала.
Мэгги не опустила головы и не проронила ни слезинки. Она училась уму-разуму. Что бы про тебя ни думали другие, это все равно, все равно, все равно! Девочки теперь ее сторонились — побаивались Боба и Джека, да и родители, прослышав о случившемся, велели детям держаться от нее подальше: так ли, эдак ли, а дружба с кем-либо из Клири обычно к добру не ведет. И последние школьные дни Мэгги, как тут выражались, провела «в Ковентри», — это был настоящий бойкот. Даже сестра Агата не нарушала новую политику и зло срывала уже не на Мэгги, а на Стюарте.
Как всегда бывало, когда дни рождения младших детей приходились в будни, праздновать шестилетие Мэгги решили в следующую субботу, и тогда-то она получила заветный сервиз. Посуду расставили на красивом голубом столике, — столик вместе с двумя такими же стульями искусно смастерил Фрэнк в минуты досуга (которого у него никогда не бывало), и на одном из этих стульчиков восседала Агнес в новом голубом платье, сшитом Фионой в минуты досуга (которого у нее тоже никогда не бывало). Горестно смотрела Мэгги на бело-синие узорчатые чашки и блюдца с веселыми сказочными деревьями в пушистых цветах, с крохотной пышной пагодой и невиданными птицами и с человечками, что вечно спешат перейти выгнутый дугою мостик. Все это начисто утратило былую прелесть. Но Мэгги смутно понимала, почему родные, урезая себя во всем, поднесли ей, как они думали, самый дорогой ее сердцу подарок. И, движимая чувством долга, она приготовила для Агнес чай в четырехугольном чайничке и словно бы с восторгом совершила весь положенный обряд чаепития. И упорно продолжала эту игру много лет, ни одна чашка у нее не разбилась и даже не треснула. И никто в доме не подозревал, как ненавистны ей этот сервиз, и голубой столик со стульями, и голубое платье Агнес.
В 1917 году, за два дня до рождества, Пэдди принес домой свою неизменную еженедельную газету и новую пачку книг из библиотеки. Однако на сей раз газета оказалась поважнее книг. Ее редакция под влиянием ходких американских журналов, которые хоть и очень редко, но все же попадали и в Новую Зеландию, загорелась новой идеей: вся середина посвящена была войне. Тут были не слишком отчетливые фотографии анзаков[2 - Солдаты Австралийско-Новозеландского корпуса в годы первой мировой войны.], штурмующих неприступные утесы Галлиполи, и пространные статьи, прославляющие доблестных воинов Южного полушария, и рассказы обо всех австралийцах и новозеландцах, удостоенных высокого ордена — креста Виктории за все годы, что существует этот орден, и великолепное, на целую страницу, изображение австралийского кавалериста на лихом скакуне: вскинута наотмашь сабля, сбоку широкополой шляпы развеваются шелковистые перья.
Улучив минуту, Фрэнк схватил газету и залпом все это проглотил, он упивался этой ура-патриотической декламацией, в глазах загорелся недобрый огонек. Он благоговейно положил газету на стол.