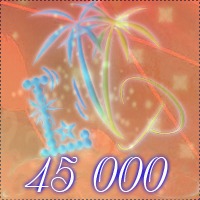Людвиг был прав, за неделю на кухне Люк недурно отдохнул, был исполнен благодушия и рад поразвлечься. Когда сынишка Брауна прибежал в барак и сказал о звонке Мэгги, Люк как раз домывал тарелки после ужина и собирался съездить на велосипеде в Ингем для обычной субботней выпивки в компании Арне и других рубщиков. Приезд жены оказался приятным разнообразием: после того месяца в Этертоне, как ни выматывала работа на плантациях, Люка порой тянуло к Мэгги. Только страх, что она опять начнет требовать «бросай тростник, пора обзавестись своим домом», мешал ему заглянуть в Химмельхох всякий раз, как он бывал поблизости. Но сейчас она сама к нему приехала — и он совсем не прочь провести с ней ночь в постели. Итак, он поскорей покончил с посудой, и, на счастье, пришлось крутить педали всего каких-нибудь полмили, дальше подвез попутный грузовик. Но пока он шагал с велосипедом оставшиеся три квартала до гостиницы, радость предвкушения поостыла. Все аптеки уже закрыты, а «французских подарочков» у него нет. Он постоял перед витриной, полной старого, размякшего от жары шоколада и дохлых мух, и пожал плечами. Ничего не поделаешь, рискнем. Впереди только одна ночь, а если будет ребенок, так, может, на этот раз больше повезет и родится мальчишка.
Заслышав стук в дверь, Мэгги испуганно вскочила, босиком прошлепала к двери.
— Кто там?
— Люк, — отозвался голос.
Она отперла, приотворила дверь и спряталась за нею, когда Люк распахнул дверь пошире. И, едва он вошел, захлопнула дверь и остановилась, глядя на него. А Люк смотрел на нее: после рождения ребенка груди у нее стали полнее, круглей, соблазнительней прежнего, и соски уже не чуть розовые, а яркие, алые. Если б Люка требовалось подогревать, одного этого было сверхдостаточно; он подхватил Мэгги на руки и отнес на кровать.
Рассвело, а она еще не промолвила ни слова, хотя ее прикосновения доводили его до исступленных порывов, никогда прежде не испытанных. И вот она отодвинулась от него и лежит, какая-то вдруг странно чужая.
Люк с наслаждением потянулся, зевнул, откашлялся. Спросил:
— С чего это ты вдруг прикатила в Ингем, Мэг? Она повернула голову, большие глаза смотрят презрительно. Это его задело.
— Так с чего ты сюда прикатила? — повторил он. И опять молчание, только все тот же язвительный взгляд в упор, похоже, она просто не желает отвечать. Довольно смешно после такой ночи.
Но вот ее губы дрогнули в улыбке.
— Я приехала сказать тебе, что уезжаю домой, в Дрохеду.
Сперва он не поверил, но посмотрел внимательнее в лицо ей и понял: да, это всерьез.
— Почему? — спросил он.
— Я ведь предупреждала тебя, чем кончится, если ты не возьмешь меня в Сидней, — сказала Мэгги. Люк искренне изумился.
— Да ты что, Мэг! Это ж было полтора года назад, черт подери! И ведь я же возил тебя отдыхать! Месяц в Этертоне — это, знаешь ли, стоило недешево! Я не миллионер, еще и в Сидней тебя возить!