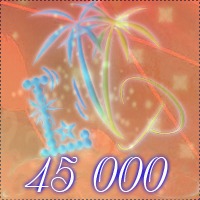ЧАСТЬ II - Глава 12
Несколько часов спустя, в свою первую одинокую ночь в Германии, я перечитывал письмо Саванны, желая оживить в памяти последнюю неделю. Это оказалось легко — воспоминания уже начинали преследовать меня и порой казались реальнее, чем гарнизонная обстановка. Я чувствовал маленькую ручку Саванны в своей, видел, как она выжимает волосы. Я рассмеялся вслух, вспомнив свое удивление, когда Саванна, впервые встав на доску, уверенно доехала на волне до самого берега. Семь дней в ее обществе изменили меня настолько, что это заметили даже парни из нашего отделения.
Битых две недели Тони немилосердно прохаживался на мой счет, искренне уверовав, что именно его убежденность в важности общения с женским полом сыграла свою роль. Я сглупил, рассказав ему о Саванне, и с тех пор Тони по пять раз на дню требовал подробностей. Стоило мне приняться за книгу, как он садился напротив с идиотски широкой улыбкой.
— Расскажи мне еще раз о своем безумном отпускном романе, — требовал он.
Я не отрывал глаз от страницы, подчеркнуто игнорируя другана.
— Саванна ее зовут, да? Са-ван-на. Черт, мне нравится это имя. Такое… Такое… А, изысканное! Но держу пари, она просто тигрица в юбке!
— Заткнись, а?
— Ты со мной не это! Разве не я воспитывал тебя, как мать родная? Не выгонял тебя пинками на вечеринки? Наконец ты послушался, и теперь время возвращать долги. Я жду подробностей.
— Это не твое дело.
— Но вы хоть пили текилу? Я говорил тебе, это с любой сработает!
Я молчал. Тони воздел руки:
— Хорош тянуть, уж столько-то ты можешь рассказать старому другу!
— Я не хочу об этом говорить.
— Потому что влюблен? Ты что-то такое рассказывал, но я начинаю думать, что ты все выдумал.
— Правильно, выдумал, теперь отвяжешься? Покачав головой, Тони поднялся со стула.
— Да ты просто сохнешь по ней, приятель.
Я ничего не ответил, но про себя не мог не согласиться. Я пропал, влюбился в Саванну по самую маковку и был готов на все, лишь бы быть с ней. Я подал рапорт о переводе в Штаты. Командир нашей части, известный своим практическим подходом к делу, отнесся к моей просьбе серьезно. На вопрос о причине я ответил, что у меня одинокий пожилой отец. Офицер откинулся на спинку стула и без обиняков сказал:
— Шансы невелики, если у твоего отца нет проблем со здоровьем.
Выходя от начальства, я не пытался скрыть разочарование от того, что мне ничего не светит минимум шестнадцать месяцев. В следующее полнолуние я вышел из казармы и побрел на травянистую лужайку, где мы часто играли в соккер. Там я лег на спину и уставился на луну, вспоминая каждую минуту нашей недели и тихо кипя от сознания, что я сейчас так далеко.
С самого начала звонки и письма стали регулярными. Мы обменивались и и-мейлами, но вскоре я понял, что Саванна предпочитает настоящие письма и ждет от меня того же самого. «Конечно, это не так оперативно, как и-мейл, но за это я письма и люблю, — писала она. — Мне нравится неожиданность, когда находишь письмо в почтовом ящике, и будоражащее предвкушение новостей, когда открываешь конверт. Мне нравится, что я могу взять письмо с собой и прочесть на природе, чтобы лицо овевал легкий бриз, а строки письма вдруг начинали звучать. Мне нравится представлять, как ты выглядел, когда писал мне, — твою одежду, обстановку, то, как ты держал ручку. Наверное, это наивно и неточно, но я представляю, что ты сидишь в палатке за импровизированным столом и пишешь при свете масляной лампы, а снаружи завывает ветер. Это несравненно более романтично, чем читать и-мейл с монитора бездушной машины, которую используешь для загрузки музыки или поисков доклада».
Я улыбался, читая о палатке с масляной лампой и столом из ящиков, но согласился, что это куда романтичнее, чем купленные на деньги правительства флуоресцентные светильники и письменный стол в наших бревенчатых казармах.
Шли дни, недели, и моя любовь к Саванне становилась все сильнее. Иногда я тайком уходил от сослуживцев, чтобы побыть одному, доставал фотографию Саванны и пристально изучал каждую черточку. Я был одержим Саванной и до мелочей помнил проведенную с ней неделю, но по мере того как лето сменилось осенью, а осень перешла в зиму, я все больше был благодарен ей за фотографию. Я говорил себе, что точно помню, как Саванна выглядит, но не мог не признать, что детали со временем стираются из памяти. А может, прежде я их просто не замечал. Например, на фотографии я разглядел маленькую родинку под левым глазом, которую как-то упустил, а ее улыбка при внимательном рассмотрении оказалась немного асимметричной. Эти божественные несовершенства делали Саванну еще прекраснее, но временами мне было невыносимо оттого, что приходится изучать их по фотографии.
Жизнь шла своим чередом. Я постоянно думал о Саванне и очень скучал по ней, но у меня были обязанности, которые нужно было выполнять. В начале сентября вследствие ряда обстоятельств, которые даже армия не в силах внятно объяснить, мое отделение вторично послали в Косово для присоединения к Первой бронетанковой дивизии, выполнявшей очередную миротворческую миссию, при том что почти вся пехота была отослана обратно в Германию. В Косово обстановка оказалась довольно спокойной, мне ни разу не пришлось стрелять, но это не значит, что я проводил дни, собирая цветочки и мечтая о Саванне. Я чистил автомат, ходил в патрули, постоянно был настороже на случай нападения каких-нибудь фанатиков и к ночи с ног валился после многочасового напряжения. Иногда я по два-три дня не думал, что сейчас делает Саванна, и вообще не вспоминал о ней. Но разве это делало мою любовь менее реальной? Я вновь и вновь задавал себе этот вопрос и всякий раз отвечал «нет», ибо ее образ нападал на меня как из засады, когда я меньше всего ожидал, вызывая нестерпимую тоску, как в день отъезда. Что угодно могло вызвать прилив воспоминаний: сослуживец, упомянувший жену, сербская парочка, держащаяся за руки, или даже улыбки некоторых местных жителей, встречавших нас на улицах.
"Дорогой Джон" (Николас Спаркс)
Сообщений 61 страница 80 из 109
Поделиться6124.05.2013 18:43
Поделиться6224.05.2013 18:43
Письма от Саванны приходили примерно раз в десять дней, и к моему возвращению в Германию скопилась целая стопка. Ни одно из них не походило на первое письмо, прочитанное мною в самолете; большинство посланий напоминали непринужденную, легкую болтовню, и лишь в конце порой прорывались истинные чувства. Саванна держала меня в курсе событий. Оказывается, первый дом они закончили с небольшим опозданием относительно графика, поэтому второй коттедж пришлось гнать на всех парах. Рабочие дни стали длиннее, но доморощенные строители уже напрактиковались и кое-чему научились, поэтому работа спорилась. По завершении первого дома студенты устроили пир на всю округу, и тосты в их честь звучали до самого утра. Почин отмечали в «Лачуге креветки»; Тим заявил, что тамошняя обстановка даст фору любому дорогому ресторану. Я узнал, что Саванна будет слушать лекции почти у всех преподавателей, к которым записывалась весной. Она пришла в восторг, выяснив, что подростковую психологию будет читать доктор Барнс, автор большой статьи, недавно опубликованной в каком-то эзотерическом журнале по психологии. Я не искал доказательств, что все эти месяцы Саванна думала исключительно обо мне, даже попадая молотком по пальцу или помогая вставлять оконную раму, или общалась с Тимом, страстно желая, чтобы на его месте был я. Мне нравилось думать, что наше чувство глубже подобных мелочей, а постепенно к этому добавилась вера, которая помогла мне еще сильнее любить Саванну за ее успехи.
Конечно, я очень хотел знать, любит ли она меня по-прежнему, и Саванна ни разу меня не подводила. Полагаю, в этом причина, почему я сохранил все до единого письма. В конце всегда было несколько предложений, иногда даже целый абзац, заставлявших задуматься и будораживших воспоминания, и я перечитывал эти отрывки, словно слушая голос Саванны:
Я думаю о нас с тобой и нашем чувстве, зная, что другие с уверенностью назовут ту неделю типичным влиянием лета и моря, романом-однодневкой, который скоро забудется. Вот почему я никому не говорю о нас. Люди не поймут, а мне не хочется объяснять. Я и так знаю — наша любовь реальна. Когда я думаю о тебе, то не могу не улыбаться при мысли, что ты каким-то образом стал моей половинкой. Я люблю тебя не только сейчас, но постоянно и мечтаю о том дне, когда ты снова обнимешь меня своими сильными руками.
А вот что она написала после того, как я отправил свою фотографию:
Хочу поблагодарить тебя за фото — я уже положила его к себе в кошелек. На снимке у тебя здоровый и счастливый вид, но должна признаться, увидев тебя, я заплакала. Не потому, что мне стало грустно, — хотя мне и правда стаю грустно, потому что я не могу увидеться с тобой по-настоящему, — а просто от счастья. Фотография напоминает мне — ты самое лучшее, что есть в моей жизни.
Отрывок из письма, которое пришло в Косово:
Должна сказать, меня обеспокоило твое последнее письмо. Я хочу узнать подробнее. Мне нужно знать об этом, пусть даже у меня занимается дыхание и холодеет внутри, когда я читаю, что такое жизнь солдата. Я собираюсь домой на День благодарения и волнуюсь насчет результатов тестирования, а ты где-то в горячей точке, окруженный людьми, желающими навредить тебе. Я всей душой хочу, чтобы те люди узнали тебя получше, и тогда ты будешь в безопасности. Совсем как я в твоих объятиях.
Рождество в том году получилось невеселое — впрочем, всегда грустно встречать этот праздник вдали от дома. Это было не первое унылое Рождество за годы службы, и каждый раз праздник заставал нас в Германии. Двое парней из нашей казармы наскоро соорудили рождественскую елку из подручных материалов — зеленую брезентовую штормовку надели на швабру и обмотали гирляндой мигающих лампочек. Больше половины сослуживцев разъехались по домам, а меня в числе других невезучих оставили на посту на случай, если нашим русским друзьям стукнет в голову, что мы по-прежнему смертельные враги. Большинство тех, кто остался, отправились в город праздновать сочельник и вусмерть напиваться качественным немецким пивом. Я уже открыл подарок, присланный Саванной, — свитер во вкусе Тима и пакет домашнего печенья, и знал, что она тоже получила духи, которые я отправил. Но мне было тоскливо, и в качестве подарка самому себе я раскошелился на телефонный разговор с Саванной. Звонка она не ожидала, и много недель спустя я вновь и вновь вспоминал ее восторженный вопль. Мы говорили больше часа. Я соскучился по звуку ее голоса, забыл ее уморительный акцент и выговор в нос, становившийся заметнее, если она начинала говорить быстро. Я откинулся на спинку стула, представляя, что Саванна рядом, и слушал, как она описывает падающий снег. Как по волшебству за моим окном тоже начался снегопад, и на краткий миг мне показалось, что мы снова вместе.
С января 2001 года я начал считать дни, оставшиеся до нашей встречи. Мой летний отпуск начинался в июне, а до конца службы оставалось меньше года. Я просыпался утром и говорил себе — осталось служить триста шестьдесят дней, затем триста пятьдесят девять, триста пятьдесят восемь, а с Саванной мы увидимся через сто семьдесят восемь, сто семьдесят семь, сто семьдесят шесть дней и так далее. Перспектива казалась реальной и довольно близкой, и потихоньку я осмелился мечтать о возвращении в Северную Каролину. С другой стороны, это занятие наглядно доказывало черепашью скорость времени — так в детстве дни удлинялись, когда я нетерпеливо ждал летних каникул. Не будь у меня писем Саванны, ожидание показалось бы бесконечным.
Поделиться6324.05.2013 18:44
Отец мне тоже писал. Не так часто, как Саванна, но строго по графику — раз в месяц. К моему удивлению, его письма стали в два-три раза длиннее привычной одностраничной нормы; дополнительную площадь занимали, разумеется, монеты. В свободное время я приходил в компьютерный центр и через Интернет искал редкие монеты и выяснял их историю. Информацию я послал отцу. Клянусь вам, на следующем папином письме я в первый раз заметил высохшие пятна от слез. Конечно, это лишь мое предположение — папа никогда не заводил об этом речь, но я надеюсь, что он изучал присланные данные с тем же тщанием, которое обычно доставалось «Бюллетеню нумизмата».
В феврале нас отправили на совместные маневры с другими частями НАТО — очередное мероприятие типа «представьте, что сейчас 1944 год и идет война». По условиям учения, предполагаемый противник предпринял стремительное танковое наступление по сельской местности Германии. Практическая ценность таких учений весьма невелика, если вам интересно мое мнение. Подобные войны давно стали частью прошлого, как испанские галеоны, дающие залп из бортовых пушек ближнего боя, или кавалерия Соединенных Штатов, во весь опор скачущая на помощь своим. Сейчас никто не может сказать, кто окажется нашим врагом, но все уверены — это будут русские, что вообще ни в какие ворота не лезет, ведь они теперь наши союзники. К тому же не надо забывать, что у них осталось не так уж много танков на ходу. Даже если они тайно построили тысячи «тридцатьчетверок» на каком-нибудь секретном заводе в Сибири с целью поутюжить гусеницами старушку Европу, лавина танков будет встречена ударами с воздуха и бронетанковыми дивизиями, а не нашим братом пехотинцем. Однако меня, как вы сами понимаете, никто не спрашивал. В довершение всего с самого начала маневров установилась отвратительная погода, с каким-то дерьмовым холодным фронтом, затеявшим движение с севера, неся арктический воздух нам в подарок. Эпическая сила, иначе не скажешь: слякоть, снег, град, скорость ветра больше пятидесяти миль в час — словом, армия Наполеона во время отступления от Москвы. От холода на бровях выступал иней, было больно дышать, а пальцы моментально примерзали к стволу автомата, стоило его задеть. Отдирать было чертовски неприятно (за маневры я потерял немало кожи с пальцев). Однако, замотав лицо и держа руку на прикладе, я маршировал в ледяной каше под бесконечным ледяным душем, изо всех сил стараясь не превратиться в ледяную статую, пока мы изображали борьбу с врагом.
Предполагаемый противник продержал нас десять дней. Половина моих бойцов обморозилась, другая половина пострадала от переохлаждения, и к окончанию маневров в отделении оставалось три или четыре боеспособных солдата, как один загремевших в изолятор сразу по возвращении на базу. Включая меня. Маневры в целом оказались едва ли не самым смехотворным и идиотским мероприятием, в котором армия заставила меня участвовать. А это кое-что значит, поскольку мне довелось выполнять много дурацких заданий старого доброго Дядюшки Сэма и Большой красной единицы.[10] Когда командир части прошелся по больничной палате, поздравив мое отделение с отлично выполненной боевой задачей, меня подмывало высказаться насчет целесообразности изучения тактики современной войны или как минимум настройки телеканала метеопрогнозов. Однако я, как истый пехотинец, четко бросил руку к виску и поблагодарил за теплые слова.
После этого потянулись однообразные месяцы гарнизонной службы. Скуку немного разбавляли нечастые занятия по изучению новых моделей оружия или навигации. Несколько раз я ходил с ребятами в город выпить пива, но большей частью качался, перетаскав, наверное, тонны железа, бегал, пробежав сотни миль, и навешал Тони бессчетных плюх, когда мы боксировали на ринге.
Впрочем, весна в Германии оказалась куда приветливее, чем я ожидал после погодки на маневрах. Снег таял, показались цветы, в воздухе потеплело. Особой жары не было, но температура поднялась выше нуля, и этого хватило многим, втом числе и мне, чтобы натянуть шорты и играть возле казармы во фрисби или софтбол. Когда до июня осталось всего ничего, я уже на стенку лез от нетерпения, желая поскорее попасть в Северную Каролину. Саванна окончила колледж и занималась на летних курсах, готовясь к экзамену на степень магистра, поэтому я планировал ехать сразу в Чапел-Хилл. Я предвкушал две незабываемые, великолепные недели — Саванна обещала сопровождать меня даже в Уилмингтон, — и меня попеременно бросало то в жар, то в холод. При мысли о предстоящей побывке меня окатывало волной возбуждения, нетерпения, волнения… и страха.
Да, мы переписывались и разговаривали по телефону. Да, я выходил смотреть на луну в первую ночь полнолуния (Саванна писала, что тоже соблюдает этот зарок). Но я не видел ее почти год и не мог представить ее реакцию на нашу встречу. Кинется ли она в мои объятия, едва я сбегу с трапа самолета, или встретит меня сдержанным поцелуем в щеку? Станем ли мы непринужденно общаться или затеем разговор о погоде, мучаясь взаимной неловкостью? По ночам я не мог уснуть, прокручивая в воображении различные сценарии нашей встречи.
Тони знал, что со мной творится, хотя и не привлекал к этому внимания остальных. В конце мая он лишь похлопывал меня по спине.
— Вскоре увидитесь, — приговаривал он. — Готов к встрече?
— Ох, готов… Тони фыркнул:
— Не забудь купить по дороге текилы.
Я выразительно покосился на него. Тони заржал.
— Все будет прекрасно, — сказал он. — Она любит тебя, приятель, не может не любить, раз ты по ней с ума сходишь.
Поделиться6424.05.2013 18:44
Глава 13
В июне 2001 года мне наконец дал и отпуск, и я отбыл домой рейсами Франкфурт — Нью-Йорк и Нью-Йорк — Роли. Был вечер пятницы. Саванна обещала встретить меня на машине в аэропорту и повезти в Ленуар знакомиться с родителями. Об этом маленьком сюрпризе она сообщила мне за день до перелета. Я ничего не имел против знакомства с ее предками, уверенный, что это замечательные люди, но если бы я мог выбирать, то предпочел бы побыть наедине с Саванной хотя бы несколько дней. Трудновато, знаете ли, наверстывать упущенное, когда родители ходят по пятам.
Пусть у нас и не было физического сближения — зная Саванну, я не сомневался, что до брака и не будет, хотя был не против сглазить эту уверенность, — но как отреагируют ее родители, если я буду пропадать с их дочерью с утра до поздней ночи, пусть даже мы только за ручки держимся? Саванна — взрослая девушка, но родители способны дойти до абсурда, когда дело касается их собственного чада, и рассчитывать на понимание здесь не приходилось. Для них дочь всегда будет маленькой девочкой.
Но Саванна напомнила, что у меня только две недели, и если я планирую поехать к отцу на вторые выходные, то с ее родителями нужно познакомиться в первый уикэнд. Она так радовалась предстоящей перспективе моего знакомства с ее предками, что я счел за благо ответить — жду не дождусь и в полном восторге. Оставалось лишь гадать, смогу ли я, как прежде, держать Саванну за руку и уговорить ее сделать небольшой крюк по Ленуару.
Когда самолет приземлился, выдержка мне едва не изменила — я себя не помнил от нетерпения и волнения. Я по-прежнему не знал, как себя вести: кинуться ей навстречу или неторопливо подойти и сдержанно кивнуть? Времени на размышления не оставалось. Ничего не решив, я медленно двигался по проходу к трапу. Закинув сумку на плечо, я сбежал по наклонной дорожке, ведущей в терминал. Я не сразу заметил Саванну: в зале толклось много народа. Пристально всматриваясь в толпу, я разглядел мою брюнетку слева от основной массы встречающих. За долю секунды все мои страхи и волнения бесследно исчезли: она кинулась ко мне со всех ног. Я едва успел сбросить с плеча сумку, когда Саванна прыгнула в мои объятия, и последовавший поцелуй показался целым волшебным королевством, со своим особым языком, географией, сказочными мифами и чудесами. Оторвавшись от моих губ, она прошептала мне на ухо: «Я так по тебе скучала!» — и я почувствовал, что вновь становлюсь единым целым, целый год прожив разрезанным надвое.
Не могу сказать, сколько мы простояли обнявшись, но когда наконец направились за багажом, я потихоньку завладел рукой Саванны, чувствуя, что люблю ее сильнее, чем год назад, и никого больше не смогу так полюбить.
По пути мы весело болтали, но прогулки по Ленуару не получилось. Въехав на парковку, мы принялись тискаться и целоваться, как подростки. Это было здорово — давайте так и решим. Пару часов спустя мы приехали к ее родителям. Они ждали на крыльце ухоженного двухэтажного дома в викторианском стиле. К моему удивлению, мать Саванны, Джилл, радушно обняла меня и сразу предложила пива. Я отказался, потому что больше никто не пил, но по достоинству оценил попытку. Мать во многом напоминала дочь — дружелюбная, открытая и гораздо более лукавая, чем показалось вначале; супруг оказался копией жены, и я отлично провел время. Саванна весь вечер не отпускала мою руку, но это не вызвало нареканий. Поздним вечером мы отправились на долгую прогулку по залитым лунным светом дорожкам. Когда мы вернулись в дом, мне уже казалось, что разлука нам просто приснилась.
Мне постелили в комнате для гостей — иного я и не ожидал. Комната была лучше, чем большинство помещений, в которых мне доводилось ночевать, с классической мебелью и удобным матрасом. Воздух, однако, был спертый, и я открыл окно в надежде, что горная прохлада принесет желанную свежесть. У меня выдался длинный день — внутренне я все еще жил по немецкому времени, — и я заснул мгновенно, однако уже через час поднял голову на скрип дверных петель. Саванна, в удобной хлопчатобумажной пижаме и носках, закрыла за собой дверь и на цыпочках подошла к моей кровати.
Прижав палец к губам, они прошептала:
— Родители меня убьют, если узнают.
Поделиться6524.05.2013 18:44
Она заползла ко мне в постель и натянула одеяло до подбородка, словно при ночевке в Арктике. Я обнял девушку, наслаждаясь теплом ее тела.
Мы целовались и хихикали почти всю ночь, а к утру Саванна улизнула к себе. Не успела она дойти до своей комнаты, как я отключился. Проснулся я от солнечных лучей, лившихся в раскрытое окно. Из кухни доносились запахи завтрака. Я натянул футболку и джинсы и поспешил туда. Саванна сидела за столом, разговаривая с матерью, отец читал газету, и я сразу ощутил неловкость в их присутствии. Я присел за стол. Мать Саванны налила мне чашку кофе и поставила передо мной тарелку яичницы с беконом. Саванна, уже успевшая принять душ и полностью одетая, выглядела такой свежей в мягком утреннем свете.
— Хорошо спалось? — спросила она с лукавыми чертиками в глазах.
Я кивнул:
— Да, я видел замечательный сон.
— О! — удивилась ее мать. — О чем же?
Саванна пнула меня под столом и едва заметно покачала головой. Должен признаться, мне очень нравилось смотреть, как она ерзает от смущения. Некоторое время я, наморщив лоб, изображал сосредоточенность, но наконец признался:
— Не помню.
— Я ужасно жалею, когда забываю свои сны, — пожаловалась мать Саванны. — Как завтрак?
— Пахнет прекрасно, спасибо, — сказал я и взглянул на Саванну: — Что у нас сегодня на повестке дня?
Она склонилась ко мне:
— Можно покататься верхом. Ты сможешь удержаться на лошади?
Я колебался, не зная, что отвечать, и Саванна засмеялась.
— Все с тобой будет в порядке, обещаю.
— Легко тебе говорить…
Она выбрала Мидаса, а мне подвела оседланного коня по кличке Пеппер, на котором обычно катался ее отец. Большую часть дня мы шагом ездили по дорожкам и галопом носились по полям. Саванна взяла с собой ленч, и мы устроили пикник, усевшись на лужайке, откуда открывался вид на Ленуар. Саванна показывала свою школу и дома друзей и знакомых. Для меня стало открытием, что она не просто любила свой городок, но и никогда не хотела жить где-то еще.
Мы провели в седле шесть или семь часов. Я напрягал все силы, чтобы не отставать от Саванны, хотя это было почти невозможно. Я не летал из седла мордой в грязь, однако было несколько рискованных моментов, когда Пеппер делал свечку, и я еле удерживался в седле. Только собираясь на ужин, я понял, во что позволил себя втравить. Я ковылял, как утка: мышцы ног болели так, словно Тони лупил по ним несколько часов.
Вечером в субботу мы с Саванной пошли в уютный маленький итальянский ресторан. Она предложила мне потанцевать, но к тому времени я едва мог передвигаться. Прихрамывая, я направился к машине, но Саванна с озабоченным видом остановила меня. Нагнувшись, она стиснула мне ноту.
— Вот тут больно?
Я подскочил и заорал. Отчего-то Саванна нашла это забавным.
— Ты что делаешь?
— Проверяю, — сияя, сообщила она.
— Что проверяешь? Я же сказал — мышцы болят!
— Проверила, смогу ли я, такая маленькая, заставить кричать большого тренированного пехотинца.
— Больше не проверяй, — буркнул я, растирая ногу.
— О’кей, — легко согласилась она. — Мне тебя очень жаль.
— Что-то непохоже.
— Нет, правда жаль, — сказала Саванна. — Странно как-то, тебе не кажется? Я ездила столько же, сколько и ты, и прекрасно себя чувствую.
— Ты постоянно ездишь верхом.
— Я не садилась на лошадь уже месяц!
— Нуда, большой срок!
— Да ладно, признай — это смешно!
— Обхохочешься!
В воскресенье мы все вместе ходили в церковь. Я по-прежнему никуда не годился, поэтому хлопнулся на диван и остаток дня смотрел бейсбольный матч на пару с отцом Саванны. Джилл принесла нам сандвичей. Я вздрагивал от боли всякий раз, когда пытался устроиться поудобнее. На экране судья назначил дополнительные иннинги. Мистер Кертис оказался общительным человеком: разговор переходил с армейских порядков на обучение его питомцев и их перспективы на будущее. С дивана мне было видно, как Саванна разговаривает с матерью на кухне. Она часто мелькала за окном гостиной с корзиной белья для стирки, закладывая очередную порцию в стиральную машину. Выпускница колледжа и взрослая девица, она все еще привозила грязную одежду стирать мамочке.
Поделиться6624.05.2013 18:45
Вечером мы поехали в Чапел-Хилл смотреть новое жилье Саванны. Мебели там было немного, но дом оказался довольно новым, с газовой плитой и маленьким балконом, откуда открывался вид на студенческий городок. Несмотря на теплую погоду, Саванна зажгла газ, и мы подкрепились сыром и крекерами — в доме только и было, что сыр, крекеры да каша. Я нашел это неописуемо романтичным, хотя уже успел убедиться, что наедине с любимой романтичным мне кажется решительно все. Мы заговорились почти до полуночи; Саванна казалась странно притихшей. Когда настало время ложиться, она ушла в спальню и долго не возвращалась. Соскучившись, я пошел к ней и остановился в дверях. Саванна сидела на кровати. При моем появлении она стиснула руки и глубоко вздохнула.
— Ну что… — начала она.
— Ну так что? — спросил я, не дождавшись продолжения.
Новый судорожный вздох.
— Уже поздно. Мне завтра с утра на занятия. Я кивнул.
— Тебе нужно поспать.
— Да, — спохватилась она, словно подзабыв об этом, и отвернулась к окну. Через жалюзи пробивался яркий свет фар заезжавших на стоянку машин. Когда Саванна нервничала, она выглядела прелестно.
— Ну что… — начала она снова, словно говоря со стенкой.
— Я с удовольствием устроюсь на диване.
— Ты не против?
— Нет, — солгал я, так как, честно говоря, предпочел бы другой вариант.
Упорно глядя в сторону, Саванна сидела неподвижно.
— Просто я еще не готова, — тихо сказала она. — Хотя очень хочу. Я много думала об этом последние недели и решила, что так будет правильно. Я люблю тебя, ты любишь меня. Когда люди любят друг друга, они этим занимаются. Все казалось легко и просто, пока ты был далеко, но сейчас… — Она замолчала.
— Все нормально, — сказал я. Саванна повернулась ко мне:
— А тебе было страшно в первый раз?
Я позволил себе напомнить, что для мужчин и женщин первый раз немного отличается.
— Ну да, верно. — Она притворилась, что поправляет одеяло. — Ты злишься?
— Ничуть.
— Но ты огорчен!
— Ну… — начал я, и Саванна засмеялась.
— Прости меня!
— У тебя нет причины извиняться. Она немного подумала.
— Тогда почему все выглядит так, словно я должна извиниться?
— Ну, я одинокий солдат, — напомнил я. Саванна снова засмеялась, и в ее смехе явственно слышалось напряжение.
— Диван не очень удобный, — забеспокоилась она. — И маленький. Ты не сможешь вытянуться. И у меня нет лишнего одеяла. Я хотела захватить из дому, но забыла.
— Да, это проблема.
— Ага, — согласилась она. Я ждал.
— Пожалуй, ты можешь спать рядом со мной, — отважилась она.
Я ждал, пока Саванна закончит ожесточенный внутренний спор. Наконец она пожала плечами:
— Хочешь попробовать? Просто спать, я имею в виду?
— Как скажешь.
Впервые за вечер ее плечи расслабились.
— Все, договорились. Дай мне минуту переодеться. Она поднялась с кровати, подошла к комоду и начала что-то искать в ящике. Пижама на ней очень напоминала ту, которую она носила в родительском доме. Я вышел в гостиную и переоделся в тренировочные шорты и футболку. Когда я вернулся, она уже забралась под одеяло. Я подошел с другого края и улегся рядом. Саванна сдвинула одеяло, приподнявшись погасить свет, и легла на спину, уставившись в потолок. Я лежал на боку, глядя на нее.
— Спокойной ночи, — прошептала она.
— Спокойной ночи.
Я чувствовал, что засну не скоро — слишком был возбужден и взбудоражен. Но не хотел ворочаться и метаться боясь потревожить Саванну.
— Джон! — прошептала она.
— Да?
Саванна повернула ко мне голову:
— Сегодня первый раз, когда я целую ночь сплю с мужчиной. Как ты думаешь, это шаг к сближению?
— Да, — подтвердил я. — Еще какой. Она погладила меня по руке.
— Если кто-нибудь спросит, можешь отвечать, что мы спали вместе.
— Верно.
Поделиться6724.05.2013 18:45
— Но ты же никому не скажешь? Я не хочу потерять репутацию!
Я подавил смех.
— Это будет наш маленький секрет.
Следующие несколько дней пролетели как на крыльях. Занятия Саванны заканчивались примерно в обед. Теоретически это давало мне возможность выспаться, о чем я давно мечтал, однако выработанная годами привычка подниматься до рассвета оказалась сильнее. Я просыпался раньше Саванны и ставил воду для кофе; пока она закипала, я успевал слетать в киоск за газетой. Иногда по пути я покупал бублики или круассаны, в другой день мы просто ели кашу, и я воспринимал эти простые утра как репетицию совместной жизни — нежданное счастье, слишком прекрасное, чтобы быть правдой.
В этом я всячески себя убеждал. В доме родителей Саванна была совершенно прежней, в нашу целомудренную первую ночь — тоже, но потом я стал замечать разницу. Я как-то не думал, что в мое отсутствие Саванна живет насыщенной, активной жизнью. В календаре на дверце холодильника почти каждый день был расписан: концерты, лекции, полдюжины вечеринок у многочисленных друзей. Тим, как я заметил, тоже значился сотрапезником одного ленча. Она слушала лекции по четырем предметам и сама вела один в качестве аспирантки; по вторникам они с преподавателем изучали реальные медицинские случаи — отчет об одном из них, по ее словам, обязательно должен быть опубликован. Ее жизнь протекала именно так, как я знал из писем. Вернувшись домой, она сразу шла на кухню и наскоро сооружала себе поесть, одновременно докладывая мне, как день прошел. Саванна любила свою работу и говорила о ней с гордостью. Она оживленно щебетала, а я слушал, изредка вставляя вопросы для поддержания беседы.
В этом нет ничего необычного, говорил я себе. Напротив, было бы куда хуже, если бы Саванна ничего не рассказывала. И все же меня не покидало тоскливое, сосущее чувство — несмотря на нашу близость, между нами возник какой-то разнобой. За год, что мы не виделись, Саванна окончила колледж, получила диплом, подбросила свою шапочку в воздух в день присуждения степеней, нашла работу в качестве преподавателя-аспиранта, съехала от родителей и даже обставила дом. В ее жизни начался новый этап. В моей в принципе тоже, но ощутимых изменений не наблюдалось, если не считать того, что теперь я умел собрать и разобрать восемь видов оружия вместо шести, до тридцати фунтов увеличил вес «блинов» на штанге, которую поднимаю лежа, и отлично зарекомендовал себя на последних маневрах, наверняка заставив русских задуматься, стоит ли вторгаться в Германию с десятком бронетанковых дивизий.
Не поймите меня превратно — я по-прежнему был по уши влюблен в Саванну и иногда чувствовал силу ее любви ко мне. Даже довольно часто чувствовал. Большей частью все шло прекрасно: Саванна уходила на учебу или на работу, а я гулял по университетскому городку или бегал по небесно-голубому треку возле крытого спортивного манежа, наслаждаясь столь редким и желанным ничегонеделанием. Через день я отыскал спортзал, где мог тренироваться весь отпуск; как с военнослужащего, с меня даже не брали денег. К возвращению Саванны я успевал закончить тренировку и принять душ, и остаток дня мы проводили вместе. Вечером во вторник мы с группой ее товарищей по колледжу ходили на ужин в Чапел-Хилл. Это оказалось веселее, чем я ожидал, учитывая, что развлекаться пришлось в компании умников с летних курсов и большей частью разговор крутился вокруг психологии подростков. В среду днем Саванна устроила мне обзорную экскурсию по колледжу, познакомив со своими преподавателями. Вечером мы встретились с парой аспирантов, с которыми я познакомился накануне, купили китайской еды и посидели у Саванны. На ней был топ на лямочках, подчеркивавший загар, и все, о чем я мог думать, — она самая сексуальная женщина, которую я когда-либо видел.
К четвергу я захотел провести с ней время один на один и решил удивить ее особенным вечером в городе. Пока она была на занятиях, изучая пациентов, я пошел в магазин и потратил небольшое состояние на новый костюм с галстуком и еще одно — на туфли. Я хотел увидеть Саванну в красивом платье и заказал столик в ресторане, который продавец в обувном отделе назвал лучшим в городе. Пять звезд, экзотическое меню, нарядные официанты, все чики-пики. Я не предупредил Саванну — хотел сделать сюрприз, как я уже сказал, — но, вернувшись, она с порога защебетала о том, что договорилась провести вечер с друзьями, которых я успел навидаться за последние пару дней. Она так радовалась предстоящему развлечению, что я даже не стал говорить о ресторане.
Однако на этот раз я был не просто огорчен, а рассердился. Я не возражал против вечера в компании ее приятелей и приятельниц, даже двух вечеров, но чтобы почти каждый день?! После многомесячной разлуки, когда у нас так мало времени друг для друга? Мне не давала покоя мысль, что Саванна не разделяет моего желания общаться тет-а-тет. В последние месяцы я часто представлял, как мы будем неразлучны и вознаградим себя за целый пропущенный год, но теперь пришел к выводу, что ошибался. А это означало… что? Что я не был ей так же дорог, как она мне? В таком настроении мне нужно было остаться дома, отпустив ее одну, но я пришел в кафе и сел отдельно, отказавшись принимать участие в разговоре, и пристальным взглядом вдавливал в пол каждого, кто недоуменно смотрел в мою сторону. За годы службы я отлично овладел наукой устрашения и в тот вечер был в на редкость отличной форме. Саванна видела, что я взбешен, но всякий раз, когда она спрашивала, в чем причина, я пускался в очень убедительное пассивно-агрессивное отрицание малейших проблем.
— Просто устал, — отговаривался я.
Надо отдать ей должное, Саванна пыталась меня урезонить. Она часто брала меня за руку, улыбалась, когда думала, что я увижу, и усиленно потчевала меня содовой и чипсами. Впрочем, вскоре она устала от моей несгибаемой позиции и оставила меня в покое. Я ее не виню — сам нарочно этого добивался, и сознание того, что испортил ей настроение, согревало меня приятным мстительным чувством «зуб за зуб». По дороге домой мы почти не разговаривали и спать легли, отодвинувшись друг от друга как можно дальше. К утру я остыл и готов был все забыть, но Саванна, к сожалению, нет. Пока я ходил за газетой, она ушла, не притронувшись к завтраку, и кофе я пил один.
Я понимал, что зашел слишком далеко, и собирался загладить свою вину, как только она придет домой. Я хотел объясниться, рассказать о своем беспокойстве и запланированном ресторане и извиниться за вчерашнее. Я надеялся, что она поймет и после романтического ужина все забудется. Это то, что нам нужно, думал я, потому что завтра предстоит на два дня ехать в Уилмингтон.
Поделиться6824.05.2013 18:45
Верите или нет, я соскучился по отцу и знал, что он тоже ждет моего приезда — на свой собственный манер. Папины ожидания я никогда не ставил во главу угла и даже сейчас оправдывал на слабую троечку. Наверное, это было несправедливо, но Саванна значила для меня гораздо больше.
Я покачал головой. Саванна. Всегда Саванна. Все крутилось вокруг нее в этой поездке и моей жизни.
К часу дня я закончил тренировку, прибрал в квартире, упаковал почти все вещи и позвонил в ресторан возобновить заказ столика. Я уже выучил рабочий график Саванны и знал, что она вот-вот подъедет. От нечего делать я сел на диван и включил телевизор. Игровые шоу, мыльные оперы, рекламно-информационные ролики и ток-шоу, прерываемые коммерческими объявлениями адвокатов, навязывавших свои услуги пострадавшим от несчастных случаев. Время шло. Я ждал, каждые пять минут бегая к черному ходу глянуть на стоянку, и от скуки три или четыре раза перебрал свой багаж. Саванна, думал я, уже точно едет домой. Я вынул посуду из посудомоечной машины, второй раз почистил зубы и снова выглянул в окно; включил радио, прослушал несколько песен, переключил шесть или семь радиостанций и выключил приемник. На часах было уже два. Я гадал, где она может быть, чувствуя, как разгорается остывший гнев, и уговаривал себя, что этому есть разумное объяснение. Открыв сумку, я вытащил последний роман Стивена Кинга, налил стакан воды со льдом и удобно устроился на диване, но вскоре понял, что перечитываю одно и то же предложение, и отложил роман. Прошло еще пятнадцать минут, полчаса, и наконец я услышал, как машина Саванны въезжает на стоянку. В четверть четвертого она как ни в чем не бывало появилась на пороге, сияющая, как весенний день.
— Привет, Джон, — бросила она, подошла к столу и начала выгружать содержимое своего рюкзачка. — Извини, я опоздала, но после урока ко мне подошла студентка и сказала, что очень любит мои лекции и из-за меня решила выбрать специальностью коррекционное образование. Представляешь? Она спрашивала совета, что ей делать, какие предметы выбрать, какие преподаватели лучше… Знаешь, Она так внимательно меня слушала… — Саванна покачала головой. — Это было очень приятно! Девушка просто впитывала все, что я говорю. Значит, для кого-то я действительно меняю мир к лучшему. Одно дело, когда об этом говорят преподаватели, и совсем другое — испытать самой…
Я через силу улыбнулся, и Саванна, приободрившись, продолжила:
— В общем, она спросила, есть ли у меня время серьезно поговорить. Я ответила, что у меня всего несколько минут, но одна тема цеплялась за другую, и в результате мы пошли на ленч. Девушка просто замечательная — всего семнадцать лет, на год раньше окончила школу с углубленным изучением ряда предметов, уже учится на первом курсе и ходит на летние семинары, чтобы пройти еще больше. Такими студентами нельзя не восхищаться.
Здесь она остановилась, видимо, ожидая горячего одобрения, но притвориться я не смог.
— Способная девица, — процедил я.
Только тут Саванна внимательно взглянула на меня, а я не счел нужным скрывать свои чувства.
— Что случилось? — спросила она.
— Ничего, — солгал я.
Она отставила рюкзак со вздохом отвращения.
— Не хочешь говорить об этом? Прекрасно. Но это начинает утомлять.
— Что ты имеешь в виду? Она резко повернулась ко мне:
— Вот это! То, как ты себя ведешь! Не такой уж ты непроницаемый, Джон. Ты злишься, но не хочешь сказать почему.
Я колебался, чувствуя, что от меня ждут оправданий. Наконец я заговорил, стараясь, чтобы голос звучал ровно.
— О’кей. Я жду тебя уже несколько часов… Она воздела руки:
— Так все из-за этого? Я же объяснила! Веришь или нет, но у меня теперь есть обязанности! И я извинилась за опоздание, едва вошла.
— Да, но…
— Что — но? Тебе недостаточно моих извинений?
— Я этого не говорил.
— Тогда что?
Я не мог подобрать слов, и Саванна уперла руки в бока.
— Хочешь знать, что я думаю? Ты еще злишься из-за вчерашнего, но — дай угадаю — опять не хочешь об этом говорить, да?
Я закрыл глаза.
— Вчера вечером ты…
— Я?! — возмутилась она и замотала головой: — Ну нет, не надо валить с больной головы на здоровую! Я ничего плохого не сделала! Не я это начала! Вчера вечером можно было отлично повеселиться, а ты сидел с таким видом, будто готов кого-нибудь пристрелить!
Она преувеличивала. А может, и нет. В любом случае я промолчал.
Она продолжала:
— А ты знаешь, что сегодня мне пришлось придумывать для тебя извинения? Каково мне было, знаешь? Весь год я расхваливала тебя своим друзьям — какой у меня прекрасный парень, какой мужественный, как я горжусь твоей службой, а в результате ты раскрываешься с такой стороны, с какой я тебя еще и не видела! Ты вел себя просто бестактно!
Поделиться6924.05.2013 18:45
— А тебе не приходило в голову, что я вел себя так потому, что не хотел там находиться?
Это ее остановило, но лишь на мгновение. Саванна скрестила руки на груди.
— Может, твое вчерашнее поведение стало причиной моего сегодняшнего опоздания!
Ее заявление застало меня врасплох. Такого я не ожидал, но не в этом дело.
— Мне очень жаль, что так вчера получилось…
— Хорошо, что жаль! — закричала она. И опять я не ожидал такой реакции. — Ведь это мои друзья!
— Это я успел узнать! — отпарировал я, вскакивая с дивана. — За целую неделю-то!
— Что-что?
— То, что сказал. Я к тебе приехал, с тобой хотел побыть, ты об этом не думала?
— Ты хотел быть со мной наедине? — переспросила она. — Ну так позволь тебе сказать, что своим поведением ты показываешь обратное. Мы были одни сегодня утром. Мы были одни, когда я только что вошла. Мы были одни, когда я попыталась вести себя как ни в чем не бывало и забыть про вчерашнее. А ты только и ищешь ссоры!
— Не ищу я ссоры! — возразил я, изо всех сил сдерживаясь, чтобы не заорать (скажу сразу, у меня не получилось). Я отвернулся, пытаясь справиться с собой, но, заговорив снова, услышал в собственном голосе плохо скрываемое бешенство. — Я хочу, чтобы все стало как раньше. Как прошлым летом.
— А что было прошлым летом?
Терпеть не могу такие ситуации. Я уже ни о чем не хотел говорить. Получалось, будто я выпрашиваю любовь, а это никогда не приводит ни к чему хорошему. Поэтому я начал ходить вокруг да около.
— Прошлым летом мне казалось, что мы больше времени проводим вместе.
— Ничего подобного, — запальчиво возразила она. — Я с утра до вечера работала на стройке!
Конечно, она была права. По крайней мере отчасти. Я начал снова:
— Не надо воспринимать мои слова чересчур буквально. Я хотел сказать — мне кажется, что прошлым летом мы больше общались.
— Ах вот что тебе не нравится? Что я занята? Что у меня своя жизнь? Что ты хочешь, чтобы я прогуливала занятия всю неделю? Сказалась больной, когда мне лекции читать надо? Или забила на домашние задания? — Нет.
— Тогда что тебе нужно?
— Не знаю.
— А унижать меня в присутствии моих друзей? — Я тебя не унижал! — запротестовал я.
— Вот как? Тогда почему Триша отвела меня сегодня в сторонку и сказала, что мы с тобой совершенно разные люди и я могла найти себе и получше?
Это меня задело, хотя Саванна вряд ли понимала, как прозвучали ее слова. В гневе иногда не осознаешь, что несешь, сам проверял.
— Вчера вечером я хотел быть с тобой наедине. Вот что я пытаюсь сказать.
Мои слова не произвели на нее никакого впечатления.
— Так почему же ты молчал, как в рот воды набрал? — вопросила она. — Трудно было произнести что-нибудь вроде «А ничего, если мы займемся чем-нибудь другим? Я не в настроении сегодня веселиться в компании»? Вот и все, что нужно было сделать, Джон. Я не телепат, чтоб ты знал.
Я открыл рот для ответа, но ничего не сказал, отвернулся, отошел на другой конец комнаты и через застекленную дверь уставился на патио. Меня не особенно задели слова Саванны, просто стало грустно. Грустно при мысли, что я, возможно, потерял любимую. Я не знал, то ли делаю много шума из ничего, то ли слишком хорошо понимаю, что происходит между нами.
Я не стал продолжать разговор — споры и дискуссии никогда не были моим коньком. Все, что я хотел, — чтобы Саванна подошла ко мне, обняла и сказала: «Я понимаю, милый, отчего ты беспокоишься, но тебе не о чем волноваться».
Ничего этого не произошло. Я заговорил в дверное стекло, чувствуя себя странно одиноким:
— Ты права, нужно было тебе сказать. Извини, что не сказал. Извини за то, как я вел себя вчера, извини, что расстроился из-за твоего опоздания. Просто в течение отпуска я хотел тебя видеть как можно больше.
— Можно подумать, я не хочу! Я обернулся:
— Честно говоря, я уже в этом не уверен. И с этими словами вышел.
Я пробродил до самой ночи.
Я не знал, куда идти и даже почему ушел. Мне было необходимо побыть одному. Под палящим солнцем я направился к студгородку; вскоре оказалось, что я перебегаю от одного тенистого дерева к другому. Я не оглядывался посмотреть, идет ли за мной Саванна: знал, что нет.
Через некоторое время я набрел на студенческий центр и взял себе воды со льдом. Внутри было малолюдно, кондиционированный воздух приятно холодил, но я там не остался. Мне инстинктивно хотелось пропотеть, выпустить через поры гнев, печаль и разочарование, которые не желали меня покидать.
Одно я знал наверняка — сегодня Саванна вошла в дверь, подготовившись к спору. Ее ответы вылетали моментально и казались скорее отрепетированными, чем спонтанными, словно у нее на душе накипело с самого утра. Она безошибочно просчитала мою реакцию. Может, я и заслужил ее гнев своей вчерашней выходкой, но то, что она нисколько не считала себя виноватой и пренебрегала моими чувствами, жгло меня как огнем.
Тени удлинялись — солнце начинало клониться к закату, но я все еще не был готов возвращаться. Купив два куска пиццы и пиво в одной из крошечных пиццерий в центре студгородка — одном из тех заведений, которые существуют исключительно за счет студентов, — я поел, после чего еще долго бродил и наконец повернул назад. Было уже девять часов. После «русских горок» разнообразных эмоций я чувствовал себя выжатым как лимон. Идя по улице, где находился дом Саванны, я заметил на стоянке ее машину. В доме светилось окно спальни, остальные были темны.
Я думал, что входная дверь заперта, но ручка легко повернулась. Свет просачивался в коридор из-за неплотно прикрытой двери спальни. Я колебался, пойти туда или остаться в гостиной. Меньше всего мне хотелось новых разборок, но я глубоко вздохнул и пошел по короткому коридору. Заглянув в приоткрытую дверь, я увидел Саванну, сидевшую на кровати в не по размеру большой клетчатой рубашке, доходившей до середины бедер. Саванна подняла голову от журнала. Я неуверенно улыбнулся.
— Привет, — сказал я.
— Привет.
Я прошел в спальню и присел на край кровати.
— Извини, — сказал я. — За все. Ты была права, вчера я вел себя как придурок. Нельзя было ставить тебя в неловкое положение перед знакомыми. И не надо было злиться, когда ты опоздала. Этого больше не повторится, обещаю.
К моему удивлению, она похлопала по матрасу и тихо сказала:
— Иди сюда.
Поделиться7024.05.2013 18:46
Я подвинулся ближе, опираясь на раму кроватной сетки, и обнял Саванну. Она прижалась ко мне. Я чувствовал, как ее грудь ритмично поднимается и опускается.
— Не хочу больше спорить, — сказала она.
— Я тоже не хочу.
Когда я погладил ее по руке, она вздохнула. — Куда ты ходил?
— Можно сказать, никуда. Просто ходил по студгородку. Съел пиццу. Много думал.
— Обо мне?
— О тебе. Обо мне. О нас. Она кивнула:
— Я тоже. Ты все еще злишься?
— Нет, — ответил я. — Я сейчас слишком устал, чтобы злиться.
— И я, — повторила она и подняла голову, чтобы посмотреть мне в глаза. — Можно я скажу, о чем думала, пока тебя не было?
— Конечно, — ответил я.
— Я поняла, что это мне нужно извиниться — за то, что провожу столько времени с друзьями. Поэтому я так разозлилась. Я догадалась, на что ты намекал, но не хотела этого слышать, потому что ты был прав. Во всяком случае, отчасти. Но вот твои выводы совершенно ложны.
Я с сомнением посмотрел на нее. Саванна продолжала:
— Ты решил, я ищу общества других людей, потому что не люблю тебя как прежде? — Не дождавшись ответа, она продолжила: — А ведь дело обстоит как раз наоборот. Ты мне очень дорог, поэтому я так и поступала. Ты тут ни при чем, дело во мне.
Она нерешительно остановилась.
— Я не понимаю, что ты пытаешься сказать.
— Помнишь, я сказала тебе, что черпаю силу из нашего союза?
Я кивнул, и Саванна провела кончиками пальцев по моей груди.
— Я не шутила. Прошлое лето значило для меня больше, чем ты можешь себе представить; я была просто раздавлена твоим отъездом. Спроси Тима — я едва могла работать на стройке. Да, я посылала письма, чтобы ты верил, что у меня все хорошо и гладко, но все было иначе. Я плакала каждую ночь и днями напролет сидела возле дома, мечтая, надеясь, желая, чтобы ты неторопливо шел мне навстречу по пляжу. Когда я видела кого-нибудь с «ежиком», сердце начинало учащенно биться. Всякий раз я хотела, чтобы это был ты. Конечно, ты занят важным делом, вы размещены в другой стране, но я не знала, как трудно будет жить без тебя. Да я и не жила, а, как это говорят, влачила существование. Лишь спустя несколько месяцев начала потихоньку приходить в норму. И сейчас, как сильно я ни хотела тебя увидеть, как сильно я ни люблю тебя, меня не покидает затаенный ужас, что вот кончится твой отпуск, и я опять буду подыхать от тоски. Я разрываюсь между любовью и страхом и готова на все, только бы избежать повторения прошлого года. Вот я и придумывала нам занятия, чтобы на тебя не оставалось времени, и на этот раз мое сердце уцелело.
В горле у меня возник комок. Я молчал. После паузы она продолжила:
— Сегодня я поняла, что обидела тебя. Да, это несправедливо по отношению к тебе, но где же справедливость для меня? Через неделю ты снова уедешь, а я останусь гадать, как жить без тебя. Некоторые это могут, вот ты можешь, а я…
Она пристально разглядывала свои руки и долгое время молчала.
— Даже не знаю, что сказать, — признался я наконец. Несмотря на подавленное настроение, она рассмеялась.
— Я и не жду ответа. Мне кажется, в нашем случае ответа нет. Единственное, что знаю точно, — я не хочу тебя обижать. Я попробую собраться с духом и перестану страшиться новой разлуки.
— Можем тренироваться вместе, — невесело пошутил я и был вознагражден смехом.
— Да, это хороший способ. Десять раз нос вверх, и буду как новенькая, да? Вот бы и вправду все было так просто… Но я переживу. Будет нелегко, но на этот раз хоть не целый год, об этом я себе весь день напоминаю. К Рождеству ты будешь дома. Несколько месяцев, и пытка кончится.
Я обнял Саванну, ощутив тепло ее тела. Я чувствовал ее пальцы через тонкую ткань моей рубашки; она мягко тянула ее вверх, обнажая мне живот. Ощущение было дразнящим и возбуждающим. Я задохнулся от ее прикосновения и потянулся поцеловать девушку.
В ее поцелуе ощущалась страсть, живая и вибрирующая. Языком я коснулся ее языка, чувствуя томление девичьего тела, и глубоко задышал, когда ее пальцы двинулись к «молнии» на моих джинсах. Мои руки скользнули ниже по ее телу, и я вдруг понял, что под рубашкой на Саванне ничего не надето. Она расстегнула мне «молнию», и хотя я ничего так не желал, как продолжения, но заставил себя отодвинуться и прекратить ласки, чтобы предотвратить то, к чему она, возможно, все еще не была готова.
Я колебался, но не успел ни о чем подумать, как вдруг она села и стянула рубашку. Мое дыхание участилось, когда я увидел ее обнаженной. Нагнувшись, Саванна задрала мне рубашку и начала быстрыми легкими поцелуями покрывать мой пупок, живот, грудь, и я чувствовал, как она пытается стянуть с меня джинсы.
Я встал с кровати и стянул рубашку через голову, затем расстегнул джинсы и позволил им упасть на пол. Я целовал шею и плечи Саванны, ощущая влажное тепло ее дыхания возле моего уха. Прикосновения наших обнаженных тел обжигали, как пламя, и мы занялись любовью.
Поделиться7124.05.2013 18:46
Все получилось именно так, как я тайно мечтал весь год, а когда все закончилось, обнял Саванну, словно стремясь запомнить ее памятью тела, шепча в темноте, как сильно я ее люблю.
Мы занялись любовью второй раз. Потом Саванна уснула, а я лежал и смотрел на нее. Зрелище было самым прелестным и мирным, но отчего-то я не мог избавиться от щемящего предчувствия беды. Какими бы нежными и восхитительными ни были ласки, я знал, что в объятья друг другу мы кинулись не без некоторой доли отчаяния, как за последнюю соломинку цепляясь за надежду, что это поможет нашей любви выдержать грядущие испытания.
Поделиться7224.05.2013 18:46
Глава 14
Оставшиеся дни отпуска прошли именно так, как я рисовал в мечтах целый год. Кроме уикэнда с моим отцом, в течение которого он радостно готовил на всех и безостановочно распространялся о монетах, мы с моей возлюбленной делили каждую свободную минуту. По возвращении в Чапел-Хилл, когда у Саванны заканчивались занятия, мы проводили вместе остаток дня и вечер — ходили по магазинам на Франклин-стрит, посетили Музей истории в Роли и даже провели пару часов в зоопарке Северной Каролины. На второй вечер я все-таки пригласил ее в тот самый ресторан, который мне расхвалил продавец обуви.
Саванна запретила мне подглядывать, пока одевалась, но ожидание было щедро вознаграждено: из ванной вышла эффектная красавица. За ужином я часто поглядывал на мою спутницу, гордый ее красотой и своим везением.
Мы больше не занимались любовью. На следующее утро я проснулся и увидел, что Саванна смотрит на меня, а по ее щекам катятся слезы. Не успел я спросить, что случилось, она прижала палец к моим губам, призывая к молчанию.
— Ночь была прекрасной, — сказала она. — Но я не хочу об этом говорить.
Саванна тесно прижалась ко мне, и я обнял ее и долго слушал чистое ровное дыхание. Я понял — что-то изменилось, но в тот момент у меня не хватило смелости выяснить, что именно.
Рано утром в день отъезда Саванна отвезла меня в аэропорт. Мы сидели рядом, ожидая, когда объявят мой рейс. Большим пальцем она водила по моему запястью, рисуя круги, а когда объявили посадку, бросилась мне на грудь и заплакала. При виде выражения моего лица Саванна принужденно засмеялась, но в смехе звучала горечь.
— Да-да, я обещала, — сказала она. — Но ничего не могу с собой поделать.
— Все будет хорошо, — говорил я. — Всего-то шесть месяцев. Вот увидишь, ты еще будешь удивляться, как быстро пролетело время.
— Легко говорить, — всхлипнула она. — Но ты прав. На этот раз я буду сильнее. Со мной все будет в порядке.
Я с сомнением посмотрел на нее.
— Правда, со мной все будет в порядке, — пообещала она.
Я кивнул, и мы долго молча смотрели друг на друга.
— Не забудешь смотреть на полную луну? — наконец спросила она.
— Ни одной не пропущу, — поклялся я.
Мы поцеловались на прощание. Я крепко обнял Саванну, прошептал «люблю», затем заставил себя выпустить девушку из объятий, закинул сумку на плечо и затопал по трапу. Украдкой оглянувшись через плечо, я увидел, что Саванна уже ушла, затерявшись в толпе.
В самолете я откинулся на спинку кресла, молясь, чтобы слова Саванны оказались правдой. Хотя я знал, что она любила меня, я вдруг понял, что любви и заботы не всегда достаточно. То были кирпичики наших отношений, но строение неминуемо станет шатким без цемента проведенного вместе времени — долгих дней без угрозы неминуемой разлуки. Скрепя сердце я признал, что плохо знаю Саванну. Мне не приходило в голову, как она перенесла мой прошлогодний отъезд, и, как ни ломал голову, не мог ответить, как повлияет на Саванну нынешняя разлука. Наши отношения можно было сравнить с детским волчком: вместе у нас хватало силы заставить его вертеться, мы наслаждались красотой волшебного зрелища и почти детским ощущением чуда, однако стоило нам расстаться, и волчок замедлял вращение, начинал «нырять» и качаться. Мне предстояло придумать способ спасти наш волчок от неизбежного падения.
Я усвоил прошлогодний урок. В июле и августе я не только строчил Саванне письмо за письмом, но и часто звонил, внимательно вслушиваясь в ее голос и пытаясь распознать малейшие признаки депрессии или желание услышать слова любви или страстные признания. Сперва я очень нервничал перед каждым звонком, но к концу лета уже ждал их. На работе она делала успехи, в августе пару недель провела с родителями, а затем начался осенний семестр. С сентября мы начали обратный отсчет дней, оставшихся до окончания срока моего контракта — их было ровно сто. Считать оказалось легче в днях, чем в неделях или месяцах — словно срок, оставшийся до встречи, становился маленьким и нестрашным. Самое трудное позади, напоминали мы друг другу, и тайное беспокойство наконец-то начало меня отпускать, по мере того как листков на календаре оставалось все меньше. Я все больше проникался уверенностью, что теперь никто и ничто на свете не помешает нам быть вместе.
А потом наступило одиннадцатое сентября.
Поделиться7324.05.2013 18:47
Глава 15
В одном я уверен — воспоминания об этом дне будут преследовать меня до конца жизни. Я помню дым, поднимавшийся над башнями-близнецами и зданием Пентагона, и угрюмые лица солдат, стоявших рядом со мной перед экраном телевизора и смотревших, как люди прыгают из окон, спасаясь от огня, и разбиваются насмерть. Я видел, как сложились внутрь здания Всемирного торгового центра, превратившись в бесформенную груду обломков, и над ними поднялись огромные облака пыли. В бессильной ярости я смотрел, как эвакуировали Белый дом.
Через несколько часов я узнал, что США собираются отвечать на нападение террористов и что первый шаг предстоит сделать вооруженным силам. Наш гарнизон был приведен в состояние боевой готовности, и еще никогда я так не гордился моими солдатами. Личные разногласия и политические пристрастия отошли на второй план. На короткое время все мы стали просто американцами.
Призывные пункты по всей стране были переполнены — шла массовая запись добровольцев. Среди нас, контрактников, желание служить было сильным, как никогда. Тони первым в моем отделении записался на второй срок, и за ним потянулись остальные. Даже я, ожидавший в декабре почетной отставки и считавший дни до встречи с Саванной, поддался всеобщему порыву и продлил военный контракт.
Проще всего было бы сказать, что на мое решение повлиял всеобщий ажиотаж, но это могло послужить максимум поводом. Допустим, меня увлекла памятная всем волна патриотизма, но не стоит забывать, что я был связан двойными узами — дружбы и ответственности. Я хорошо знал моих солдат, дорожил ими, и мысль покинуть ребят в такую минуту показалась мне трусливой и совершенно неприемлемой. Вместе мы через многое прошли, и я даже не задумывался о том, чтобы оставить службу в те мрачные дни 2001 года.
Я позвонил Саванне и сообщил ей новость. Вначале она меня поддержала. Как всех, случившееся повергло ее в шок, и она прониклась важностью возложенной на меня миссии, не дожидаясь объяснений с моей стороны. Она даже сказала, что гордится мной.
Но вскоре реальность вступила в свои права. Выбрав служение своей стране, я принес в жертву личную жизнь. Хотя расследование по террористическим атакам завершилось быстро, дальнейшие события 2001 года нас напрямую не коснулись. К огромному разочарованию моих солдат, наша пехотная дивизия не принимала участия в свержении правительства талибов в Афганистане. Зиму и весну мы провели за подготовкой к новой кампании — военному вторжению в Ирак.
Примерно в это время письма от Саванны стали приходить реже. Сперва я получал их раз в неделю, потом раз в десять дней, позже, словно дни стали длиннее, письма стали приходить два раза в месяц. Я утешался тем, что настроение и тон посланий оставались прежними, но со временем и это начало меняться. Исчезли длинные отрывки, где Саванна говорила о нашей любви и будущей совместной жизни, прежде наполнявшие меня радостным нетерпением. Исполнение мечты отодвинулось на два года. Писать о столь отдаленном будущем означало лишь бередить раны, слишком болезненные для нас обоих.
С мая я лелеял надежду увидеться с Саванной в июне, однако судьба распорядилась иначе. За несколько дней до отпуска меня вызвал командир. Когда я вошел, он приказал мне сесть и сообщил, что мой отец перенес тяжелый инфаркт. Не дожидаясь моего заявления, командир дал мне дополнительный отпуск с того же дня. Вместо Чапел-Хилла и двух прекрасных недель с Саванной я поехал в Уилмингтон и провел отпуск у папиной кровати, дыша запахом антисептика, который у меня всегда вызывал мысли скорее о смерти, чем об исцелении. Когда я приехал, отец лежал в интенсивной терапии и оставался там чуть ли не до конца моей побывки. Его кожа приобрела сероватый оттенок, и дышал он часто и слабо.
В первую неделю папа часто терял сознание, а когда приходил в себя, на его изможденном лице проступали столь редкие для него эмоции (а их сочетание я вообще видел у него впервые в жизни): отчаянный страх, секундное смущение и благодарность, от которой разрывалось сердце, за то, что я рядом с ним. Я подолгу держал отцовскую руку в своей, чего никогда раньше не делал. Папа не мог говорить, поэтому наше общение было односторонним. Я почти не касался гарнизонной жизни — в основном разговор шел о монетах. Читал отцу «Бюллетень нумизмата»; покончив со свежим выпуском, сходил домой, отыскал старые экземпляры, бережно хранившиеся у отца в ящике стола, и прочитал их тоже. Заходил на сайты вроде «Редкие монеты Дэвида Холла» и «Легенды нумизматики» и зачитывал отцу, что предлагают и по каким ценам. Суммы меня поразили; я впервые подумал, что отцовская коллекция, даже с учетом падения цен на монеты (основной спрос в тот момент был на золото), стоила примерно в десять раз дороже дома, где он жил. Папа, неспособный овладеть искусством самой простой беседы, был богаче всех моих знакомых.
Но отца не интересовал денежный эквивалент коллекции. Он сразу отводил глаза, стоило упомянуть об этом, и я вспомнил слегка подзабытый факт: охота за монетами куда интереснее, чем сами монеты, а для папы каждый золотой кругляш служил вещественным напоминанием об истории со счастливым концом. Учитывая это, я напряг память, стараясь вспомнить, какие монеты мы нашли вместе. Папа вел исключительно подробные записи; перед сном я их просматривал, и мало-помалу воспоминания оживали. На следующий день я напомнил папе о наших поездках в Роли и Шарлотту. Хотя врачи сомневались, что отец поправится, за две недели он улыбался больше, чем за всю жизнь, и в день моего отъезда отца отпустили домой, приставив к нему сиделку до окончательного выздоровления.
Время, проведенное у больничной койки, благотворно сказалось на нашей с отцом дружбе, но оказалось бесполезным для нас с Саванной. Не поймите меня неправильно — она приезжала как могла часто, всячески помогала и сочувствовала. Но я безвылазно сидел в больнице, и отпуск не помог залечить те трещинки, которые начали появляться в наших отношениях. Честно говоря, я и сам не знал, чего мне от нее нужно: когда Саванна была рядом, мне казалось — лучше бы я остался наедине с отцом; однако в отсутствие любимой мне ее не хватало. Каким-то образом Саванна ухитрилась пройти по этому минному полю, не отреагировав ни на один из стрессов, которые я невольно на ней срывал. Она словно знала, о чем я думаю, и угадывала мои желания лучше, чем я сам.
Поделиться7424.05.2013 18:47
Однако нам недоставало времени, проведенного вдвоем, общения наедине. Если сравнить наш роман с батарейкой, мое пребывание за океаном разряжало ее почти до нуля, и нам обоим требовалась подпитка. Однажды, сидя у кровати отца под равномерное попискивание кардиомонитора, я сообразил, что мы с Саванной провели вместе всего четыре из последних ста четырех недель. Меньше пяти процентов времени. Даже с частыми письмами и звонками я иногда застывал, глядя в пространство, не представляя, как мы выдержим еще два года.
Иногда нам удавалось погулять, дважды мы обедали вместе, но Саванна училась и работала и не могла остаться. Я пытался не винить ее за это, но сдерживаться удавалось не всегда, и всякий раз дело заканчивалось ожесточенными спорами. Я ненавидел эти упреки не меньше, чем она, но никто из нас не был в силах прекратить ссору. Хотя Саванна все отрицала и горячо возражала, когда я поднимал эту тему, основная причина наших ссор заключалась в том, что я не сдержал своего обещания вернуться домой. Это был первый и единственный раз, когда Саванна мне солгала.
Мы честно постарались забыть разногласия, и трогательная сцена прощания опять не обошлась без слез, правда, Саванна успокоилась быстрее, чем в прошлом году. Можно было утешаться мыслью — дескать, начинаем привыкать или оба повзрослели, но в глубине души я чувствовал — что-то непоправимо изменилось. Меньше слез было пролито из-за ослабевшей силы нашего чувства.
Осознание этого оказалось болезненным. Первой ночью следующего полнолуния я вышел на пустое поле для соккера и, как и обещал, вспомнил время, проведенное с Саванной в свой первый отпуск. Я думал и о втором отпуске, но — странно — мне не хотелось думать о следующем; видимо, уже тогда я предчувствовал грядущие события.
Лето заканчивалось. Отец поправлялся, хотя и медленно. В своих письмах он писал, что ежедневно три раза в день обходит квартал пешком, и каждая прогулка длится ровно двадцать минут, но даже это давалось ему с трудом. Единственным плюсом стало то, что у папы появилось вокруг чего строить жизнь теперь, на пенсии, — помимо монет, я имею в виду. Я стал не только чаще писать ему, но начал звонить по вторникам и пятницам ровно в час дня по тамошнему времени, просто чтобы убедиться, что папа жив и ему не хуже. Я вслушивался, пытаясь угадать любые признаки усталости в его голосе, и постоянно напоминал ему хорошо питаться, вдоволь спать и принимать лекарства. Говорил в основном я — для папы телефонные разговоры были еще труднее, чем живое общение, и мне всегда казалось, что больше всего ему хочется побыстрее повесить трубку. Со временем я начал подтрунивать над ним за это, не будучи, впрочем, уверен, что папа понимает шутку. Это меня смешило, и хотя отец не смеялся в ответ, его голос сразу веселел, правда, только на несколько секунд, а потом папа снова замолкал. Это было нормально. Я знал — отец очень ждет наших разговоров. Он всегда снимал трубку на первом звонке, и я представлял, как он поглядывает на часы в ожидании звонка.
Прошел август, сентябрь, начался октябрь. Саванна отучилась в Чапел-Хилле и вернулась в родной городок, где начала искать работу. В газетах я прочел о заседании ООН, как европейские страны желают найти способ удержать нас от обострения военной ситуации в Ираке. В столицах наших союзных государств-членов НАТО тоже росло напряжение. В газетах писали о гражданских демонстрациях и убедительных заявлениях о том, что США совершают огромную ошибку. Наши лидеры искали способы изменить свое решение, а мы в гарнизоне продолжали делать свое дело — тренировались и с мрачной решимостью готовились к неизбежному. В ноябре нас опять послали в Косово. Мы пробыли там недолго, но и этого хватило. Я к тому времени уже устал от Балкан, да и от миротворческой миссии. Каждый из наших знал, что война на Ближнем Востоке будет, хочет того Европа или нет.
В то время мы с Саванной довольно регулярно обменивались письмами и телефонными звонками. Обычно я звонил ей перед закатом — около полуночи по тамошнему времени, и если прежде всегда заставал ее дома, с недавних пор она иногда не брала трубку. Тщетно я убеждал себя, что она пошла куда-нибудь с друзьями или в гости к родителям, — в голову невольно лезло черт-те что. Положив трубку, я иногда ловил себя на мысли, что Саванна встретила другого мужчину и влюбилась в него. И я перезванивал по два-три раза, тихо зверея с каждым неотвеченным звонком.
Когда Саванна наконец подходила к телефону, я ни разу не спрашивал, где она была. Любимая тоже не всегда снисходила до объяснений. Теперь знаю, что зря скромничал, но ведь я только об этом и думал, тщетно стараясь сосредоточиться на текущем разговоре. Часто я говорил напряженно, отрывисто, и в репликах Саванны тоже чувствовались скованность и напряжение. Наше общение стало напоминать обычный обмен информацией, а не радостное проявление взаимной привязанности. Повесив трубку, я проникался к себе отвращением — тоже мне, Отелло выискался — и казнился несколько дней, обещая, что не позволю этому повториться.
В другие дни Саванна казалась такой, как прежде, и я верил, что она продолжает любить меня. Моя любовь со временем стала лишь сильнее, и я часто тосковал по прежним простым временам. Я понимал, что происходит. Чувствуя растущее между нами отчуждение, я инстинктивно цеплялся за то, что нас когда-то объединяло, но словно попал в заколдованный круг — мои отчаянные старания отдаляли нас еще сильнее.
У нас начались споры. Как и при нашей первой ссоре в доме Саванны во время моего второго отпуска, мне было трудно высказать, что я чувствую. Что бы ни говорила Саванна, я не мог избавиться от мысли, что она насмехается надо мной, даже не пытаясь смягчить мои муки. Я ненавидел эти звонки сильнее, чем собственную ревность, хоть и понимал, что эти явления взаимосвязаны.
Несмотря на проблемы, я ни минуты не сомневался, что мы все преодолеем. В декабре я начал звонить регулярно и взял ревность на короткий поводок. Я заставлял себя говорить по телефону приподнятым тоном в надежде, что Саванне захочется меня слышать. Я думал, дело поправляется, и внешне все вроде бы так и обстояло, но за четыре дня до Рождества я напомнил Саванне, что буду дома меньше чем через год, и вместо ожидаемой радости в трубке повисло молчание. Я слышал только ее дыхание.
— Ты меня слышала? — растерялся я.
— Да, — тихо ответила она. — Я это и раньше слышала. Возразить было нечего, но после той реплики я не мог нормально спать неделю.
Полнолуние пришлось как раз на новогодний праздник. Выйдя посмотреть на луну, я вспоминал первую неделю нашей любви, однако образы тех дней казались зыбкими, словно подточенными огромной печалью, поселившейся во мне. По дороге назад в казарму я видел десятки сослуживцев, оживленно болтавших друг с другом или подпиравших стенку, покуривая сигарету, словно у них не было никаких забот. Интересно, что они подумали, когда я проходил мимо. Догадались ли они, что я потерял в жизни все, что прежде ценил? И что мечтаю обрести способность изменять прошлое?
Наверняка не поручусь, а ребята не спрашивали. Между тем ситуация в мире быстро менялась. Долгожданный приказ был получен на следующее утро. Через несколько дней мое отделение перебросили в Турцию (вторжение в Ирак планировали с севера). Мы просиживали на собраниях, запоминали боевые задания, изучали топографию местности, повторяли планы боев. В редкие свободные минуты, отваживаясь выходить за пределы базы, мы попадали под град острых неприязненных взглядов местных жителей. Ходили слухи, что Турция собирается отказать нашим войскам в доступе на свою территорию, и как раз шли переговоры, чтобы убедить турок этого не делать. Мы давно научились просеивать слухи через мелкое сито, однако на этот раз сведения оказались точными, и вскоре нас перебросили в Кувейт, где пришлось начинать все сначала.
Поделиться7524.05.2013 18:47
Самолет приземлился в середине дня под ярко-синим безоблачным небом среди песчаных барханов. Нас тут же погрузили в автобус, везли несколько часов и высадили в самом большом палаточном городке, который мне доводилось видеть. Армия приложила все мыслимые усилия для создания максимально комфортных условий. Еда была хорошей, в военном магазине имелось все, что может понадобиться, но — было скучно. Почта запаздывала — я не получил ни одного письма, очереди к телефону выстраивались на милю. В промежутках между занятиями мои солдаты и я собирались в палатке и гадали, когда начнется вторжение, или — с моей подачи — на скорость натягивали костюмы противохимической защиты. Согласно плану наступления, мое отделение должно было оказывать поддержку частям различных дивизий во время молниеносного броска к Багдаду. В феврале, после миллиарда лет в пустыне, я и мои люди были в полной боевой готовности.
Многие солдаты находились в Кувейте с середины ноября, и языки мололи без устали. Никто точно не знал, чего ждать: говорили о биологическом и химическом оружии, о том, что Саддам усвоил преподанный ему урок «Бури в пустыне» и отдал национальной гвардии приказ занять оборону вокруг Багдада в надежде устроить кровавый «последний заслон». К семнадцатому марта я твердо знал, что войны не избежать. В свою последнюю ночь в Кувейте я написал письма тем, кого любил, на случай, если мне не повезет, и вечером следующего дня уже находился на территории Ирака, продвигаясь к Багдаду в составе военной колонны.
Вначале бои были единичными. Наша военная авиация доминировала в иракском воздушном пространстве, и мы без опаски поглядывали в небо, двигаясь в основном по заброшенным дорогам. Иракских регулярных частей нигде не было видно, но это лишь усиливало напряжение — я пытался предугадать, с чем столкнется мое отделение в этой кампании. Время от времени мы слышали сообщение о минометном обстреле с вражеской стороны и, чертыхаясь, залезали в наши защитные костюмы (всякий раз оказывалось, что тревога ложная). Нервы были натянуты до предела. Я не спал трое суток.
По мере продвижения в глубь иракской территории начались перестрелки, и именно тогда я постиг первый закон Военной операции по освобождению Ирака: военные и гражданские здесь выглядят практически одинаково. Спонтанно начиналась стрельба, мы отвечали, иногда даже не видя, в кого стреляем. Мы добрались до «суннитского треугольника».[11] Война начинала разгораться: мы слышали о боях в Фаллудже, Рамади, Тикрите, в которых участвовали части других дивизий. На нашу долю выпало взятие Самавы — мое отделение действовало совместно с восемьдесят вторым авиационным полком. Именно тогда мы впервые узнали, что такое война.
Как и положено, путь пехоте расчищала авиация — бомбы, ракеты и минометные снаряды сыпались на город целые сутки, и когда мы перешли мост, ведущий в Самаву, я был поражен стоявшей там тишиной. В задачу моего отделения входило патрулирование окрестностей, и мы переходили от дома к дому в поисках притаившихся боевиков. Зорко глядя по сторонам, я автоматически отмечал: сгоревший грузовик, мертвый водитель лежит рядом, чей-то дом, от которого уцелело только две стены, еще дымящиеся почерневшие остовы автомобилей. Беспорядочные выстрелы из винтовок заставляли держаться настороже. Несколько раз к нам кидались гражданские с поднятыми руками, и мы делали все возможное, чтобы спасти их раненых.
Мы уже собирались возвращаться, когда из дома дальше по улице по нам открыли плотный огонь. Мы едва успели прижаться к стене, но стрельба усиливалась, и я велел двоим прикрывать, а остальных перевел через узкую простреливаемую улочку в мертвую зону на противоположной стороне. Каким-то чудом все мои люди остались живы. Оказавшись в безопасности, мы ответили на обстрел массированным автоматным огнем, выпустив по дому, где была засада, около тысячи пуль. Когда я счел, что основная опасность миновала, мы осторожно приблизились к зданию. Бросив в окно фанату, я велел своим оставаться снаружи, а сам осторожно заглянул внутрь через зиявший дверной проем — дверь выбило взрывом. Внутри висел густой дым, пахло серой, однако один иракский солдат остался жив и, когда мы вошли, открыл стрельбу из подпола. Тони был ранен в руку, остальные ответили бешеным огнем. Грохот стоял такой, что я не слышал собственных приказов, хотя орал изо всех сил, и лишь продолжал давить на спусковой крючок, водя стволом от пола через стены до потолка. Мелкие осколки штукатурки, кирпича, дерева летели градом. Когда мы наконец прекратили стрелять, я готов был поклясться, что ни один из врагов не выжил, но для верности бросил еще одну гранату в дыру, ведущую в подпол. Скорчившись, мы переждали взрыв снаружи.
Через двадцать самых напряженных минут в моей жизни на улице воцарилась полная тишина, нарушаемая лишь звоном в ушах и звуками, которые издавали мои солдаты — кого-то рвало, кто-то чертыхался или обменивался впечатлениями о свежей стычке, перекраивая ее на свой манер. Я перевязал Тони руку, проверил, целы ли остальные, после чего мы пошли назад той же дорогой. Через час мы добрались до железнодорожной станции, охранявшейся нашими войсками, и тут нас вконец развезло. А вечером нам доставили почту — впервые за шесть недель.
Меня ожидали шесть писем от отца и только одно от Саванны. В тусклом свете я начал читать:
Дорогой Джон!
Я пишу это письмо на кухонном столе, сражаясь с каждой буквой, потому что не знаю, как выговорить то, в чем должна признаться. Мне очень хочется поговорить с тобой лично, но это невозможно, поэтому сижу с мокрыми щеками и с трудом подбираю слова, надеясь, что ты простишь меня за то, что я сейчас напишу.
У вас сейчас очень тяжелый период. Я пытаюсь не думать о войне, но теленовости и газеты пестрят военными репортажами и фотографиями, и меня не отпускает страх. Зная, что твоя часть находится в самой гуще событий, я смотрю новости и перелистываю прессу, пытаясь угадать, где ты и как ты. Каждую ночь я молюсь, чтобы ты вернулся домой целым и невредимым, и всегда буду молиться о тебе. Нас с тобой связывало прекрасное чувство, и я не хочу, чтобы ты об этом забывал. Еще я не хочу, чтобы ты хоть на миг усомнился в том, что твоя любовь была взаимной. Ты редкий и замечательный человек, Джон. Я страстно полюбила тебя, но больше того — встреча с тобой открыла мне, что такое настоящая любовь. Два с половиной года я смот — рела на красавицу луну в первый день полнолуния, вспоминая, как хорошо нам было вдвоем. Я помню, как заговорила с тобой в первый вечер знакомства и почувствовала, словно знаю тебя всю жизнь. Я помню ночь, когда мы занимались любовью. Я всегда буду радоваться, что у нас с тобой все это было. Для меня это значит, что наши души соединены навеки.
Поделиться7624.05.2013 18:47
Я помню все. Когда закрываю глаза, то вижу твое лицо. Когда иду, мне кажется, ты держишь меня за руку. Эти чувства никуда не делись, но если раньше они приносили радость, то теперь причиняют лишь боль. Я понимаю, почему ты остался в армии, и уважаю твое решение, но мы оба знаем, что после этого в наших отношениях многое изменилось. Хуже того, мы сами изменились. Может, слишком долго были в разлуке или мы и вправду из разного теста, не знаю. После каждой ссоры я корила себя за несдержанность. Каким-то образом, продолжая любить друг друга, мы потеряли ту магическую связь, которая удерживала нас вместе.
Извинения здесь бесполезны, но, пожалуйста, поверь — я не хотела влюбляться в другого. Если даже я не вполне понимаю, как это произошло, как ожидать понимания от тебя? Я и не жду, но во имя милых, светлых воспоминаний не хочу и не могу лгать тебе. Ложь умалит и унизит все, что между нами было, и я решила сказать правду, хотя и знаю — ты сочтешь, что тебя предали.
Я пойму, если ты никогда не заговоришь со мной снова, пойму, если скажешь, что ненавидишь меня. Иногда я и сама себя ненавижу — за это письмо, например. Глядя в зеркало, я вижу женщину, которая не заслуживает любви. Клянусь, это правда.
Может, ты не захочешь этого слышать, но знай — ты всегда будешь в моем сердце. Ты занимаешь там особое место, где пребудешь до конца моих дней, и никогда это место не будет отдано никому другому. Ты герой и джентльмен, ты добр и честен, и ты первый мужчина, которого я полюбила по-настоящему, и так будет всегда, что бы ни готовило мне будущее. Любовь к тебе сделала мою жизнь лучше.
Прости меня. Саванна.
Поделиться7724.05.2013 18:48
ЧАСТЬ III - Глава 16
Она влюбилась в другого.
Я понял это, еще не дочитав письма, и все вокруг словно застыло. Первым побуждением было грохнуть кулаком в стену, но я лишь судорожно смял письмо и отшвырнул его прочь. В тот момент я был взбешен как никогда. Меня не только предали; казалось, Саванна вдребезги разбила все самое дорогое для меня в этом мире. Я возненавидел ее и того безымянного, безликого мужчину, который похитил ее у меня. В моем воображении возникали картины, что я с ним сделаю, если когда-нибудь встречу, и сцены были не из приятных.
В то же время мне ужасно хотелось с ней поговорить. Я решил немедленно лететь домой или по крайней мере позвонить Саванне. Порой я был не в силах поверить письму. Оставалось подождать всего девять месяцев — разве это срок после почти трех лет?
Но я никуда не поехал и не позвонил. Я не ответил на письмо и больше не получал вестей от Саванны. Я поднял смятый листок, расправил его и разгладил, положил обратно в конверт и с тех пор носил с собой, словно полученное в бою ранение. Я превратился в образцового солдата, ища убежища в единственном реальном для меня мире. Я вызывался на любое задание, которое считалось опасным, почти не разговаривал ни с кем в моем отделении и лишь некоторое время спустя научился подавлять непреодолимое желание чуть что нажимать на спусковой крючок во время патрулирования. Я никому не доверял в городах, и хотя там обошлось без несчастных случаев, как в армии любят называть гибель гражданских лиц, я солгал бы, сказав, что был терпелив и мягок с иракцами любого сорта. Я почти не спал, но восприятие лишь обострилось. По иронии судьбы, только смертельный риск заглушал мою любовную тоску и сознание, что нашим отношениям пришел конец.
Военная фортуна тоже девушка непостоянная. Меньше чем через месяц после получения мною письма Багдад пал. Краткий многообещающий успешный период вскоре начал сменяться неразберихой и беспорядками, по мере того как шли недели и месяцы. Войны, видите ли, мало отличаются друг от друга: в конце концов все сводится к борьбе конкурирующих интересов. Однако это открытие не сделало жизнь легче. После падения Багдада каждому из моих людей досталась роль полицейского и судьи. Будучи солдатами, мы не были к этому готовы.
Сейчас легко рассуждать задним умом, как нам следовало поступать, но в боевой обстановке и в реальном времени решения не всегда находятся сразу. Не раз к нам подходили гражданские и жаловались, что такой-то украл ту или иную вещь или совершил то или иное преступление, и просили помощи. Это не входило в наши обязанности. Мы находились в Багдаде для поддержания хотя бы видимости порядка, что в основном означало убивать повстанцев, покушавшихся, кстати, не только на американских солдат, но и на своих же мирных жителей. У местных не хватало сил справиться с головорезами самостоятельно. Процесс установления порядка протекал медленно и тяжело даже в тех районах, где царило скорее спокойствие, чем хаос. Тем временем начались беспорядки в других городах, и нас перебросили туда восстанавливать спокойствие. Мы зачищали от повстанцев очередной населенный пункт, но у нас не хватало солдат, чтобы установить в городе контроль и поддерживать порядок, и вскоре после нашего ухода там снова объявлялись мятежники. Мои солдаты лишь хмыкали при виде столь непродолжительного эффекта наших усилий, хотя и держали недовольство при себе.
Не знаю, как описать стресс, скуку и неразбериху следующих девяти месяцев; в качестве характерной детали могу назвать вездесущий, неизбывный песок. Да, пустыня, куда деваться, и все же… Я жил у океана и провел массу времени на пляже, так что песок мне не в диковинку, но здесь все было иначе. Мельчайшие песчинки набивались в складки одежды, в автомат, в запертые ящики, в еду, в уши, в нос, между зубами; когда мне случалось сплюнуть, песок ощущался даже во рту. Людей забавляет подобное описание событий в Ираке из уст участника военной кампании, и никто не хочет слышать правды, которая заключается в том, что большую часть времени Ирак был хуже ада. Неужели кому-то действительно хочется знать, как солдат моего отделения у меня на глазах застрелил маленького мальчишку, который неожиданно выбежал прямо под наши выстрелы? Или как наших парней разрывало на куски сработавшим СВУ — самодельным взрывным устройством на дорогах возле Багдада, и кровь ручейками бежала по асфальту, словно дождевая вода, вытекая из разметанных мертвых тел? Разумеется, люди лучше послушают о песке, старательно отгородившись от ужасов войны.
Теперь я служил с рвением и тщанием, снова продлил контракт и оставался в Ираке до февраля 2004 года, когда нас отозвали обратно в Германию. Сразу по возвращении я купил себе «харлей» и разъезжал на нем с видом старого служаки, который видал эти войны во всех видах, но ночные кошмары не прекращались, и почти каждое утро я просыпался в холодном поту. Днем я почти всегда был на взводе и срывался по самому пустячному поводу. Идя по улицам мирного германского городка, я подозрительно сверлил глазами мирно подпиравших стенку лоботрясов и высматривал снайперов в окнах зданий в деловом районе. Психолог — а к нему мы обратились все до единого — сказал, что это нормально и со временем пройдет, однако я начал сомневаться, хватит ли на это «потом» моей жизни.
После Ирака служба в Германии казалась почти бессмысленной. Я по-прежнему тренировался по утрам и посещал занятия по новым видам оружия и навигации, но многое изменилось. После ранения Тони уволился со службы, был награжден «Пурпурным сердцем» и уехал в Бруклин сразу после падения Багдада. Еще четверо моих солдат получили почетную отставку в конце 2003 года, когда вышел срок их контракта; они считали — а я не возражал, — что выполнили долг перед страной и пришло время заняться личной жизнью. Я, напротив, снова продлил контракт, не будучи уверен, что это правильное решение, но решительно не зная, чем еще заниматься.
Глядя на новый набор, я чувствовал себя чужим. В моем отделении появилось много новобранцев — отличных, впрочем, ребят, но это было уже не то. Ушли друзья, с которыми я прошел тренировочный лагерь, Балканы и Ирак. С этими я уже так не сдружусь. Для большинства своих солдат я был теперь чужак. Оно и К лучшему, рассудил я и стал тренироваться один, всячески избегая личного общения. Солдаты моего отделения считали меня суровым старым сержантом, которому ничего не нужно, кроме как возвернуть подопечных мамашам живехонькими и здоровехонькими. Я повторял это своему отделению вовремя тренировок и ничуть не шутил: я действительно сделаю все, от меня зависящее, чтобы они уцелели. Но, как я сказал, прежней дружеской обстановки было уже не вернуть.
Лишившись старых друзей, я всю свою преданность перенес на отца. Весной 2004 года я провел с ним длительный отпуск, положенный мне как участнику военной кампании, а затем еще и летний. За четыре недели мы провели вместе больше времени, чем за предыдущие десять лет. Папа был на пенсии и мог делать, что душа пожелает. Я легко привык к его распорядку. Мы завтракали, ходили на обязательные три прогулки и вместе обедали. Между этими занятиями мы говорили о монетах и даже приобрели парочку редких экземпляров, когда я ездил в город. Интернет сильно облегчал задачу; правда, поиски стали менее захватывающими, но, по-моему, папе было все равно. Я возобновил связи с дилерами, с которыми не общался более пятнадцати лет; они держались дружелюбно, говорили информативно и вспоминали меня с удовольствием. Нумизматический мир, как я понял, мал. Когда прибывал наш заказ (его всегда доставляли экспресс-доставкой), мы с отцом по очереди осматривали приобретение, указывая друг другу на выявленные недостатки, и обычно соглашались с категорией, присвоенной Профессиональной службой классификации монет — компанией, которая оценивает качество монет по заказу. Через некоторое время я переключался на что-то другое, но отец мог рассматривать одну монету часами, словно держал в руках величайшую тайну жизни.
Поделиться7824.05.2013 18:48
Говорили мы мало, но, с другой стороны, нам это и не требовалось. У отца не было желания говорить об Ираке, у меня — тем более. Личной жизни ни у одного из нас не было — Ирак, знаете ли, не способствует, а у папы… Ну, это ж мой отец, я его даже не спрашивал.
Тем не менее я за него беспокоился. Во время прогулок его дыхание становилось тяжелым, появлялась одышка. Когда я попробовал заикнуться, что мы гуляем слишком долго, отец ответил, что двадцать минут ему доктор прописал, и мне ничего не оставалось, как смириться. После прогулок папа едва не падал с ног, и лишь через час пунцовый румянец на его щеках начинал бледнеть. Я говорил с лечащим врачом — новости оказались неутешительными. Мне сообщили, что сердце моего отца серьезно пострадало от инфаркта и настоящее чудо, что пациент вообще передвигается. Недостаток физической активности для него еще хуже, сказали врачи.
Может, повлиял разговор с эскулапом или просто отношения с отцом улучшились, но мы очень сблизились в мой третий отпуск. Вместо того чтобы давить на отца, вытягивая из него ответную реплику, я просто сидел с ним в его «берлоге», читая книжку или разгадывая кроссворд, пока он рассматривал монеты. В отсутствие надежд у меня появились мирные и честные отношения; отец тоже постепенно привыкал к долгожданной перемене. Иногда я ловил на себе его осторожный взгляд, и выражение папиного лица казалось мне совершенно новым. Мы проводили вместе много часов, большей частью молчали, и в этой тихой, непритязательной манере наконец стали друзьями. Я часто жалел, что отец выкинул ту нашу фотографию. Когда настало время возвращаться в Германию, я знал, что буду скучать по папе как никогда раньше.
Осень 2004 года тянулась медленно. Под стать ей оказались зима и весна 2005-го. Жизнь текла без сколько-нибудь заметных событий. Порой монотонность дней нарушалась слухами о моей возможной командировке в Ирак, но там я уже бывал и поездка меня как-то не особенно тревожила. Останусь в Германии — хорошо, поеду в Ирак — тоже нормально. Как все, я следил за тем, что происходит на Ближнем Востоке, но стоило отложить газету или выключить телевизор, мысли разбредались сами собой.
Мне исполнилось двадцать восемь, и я не мог избавиться от ощущения, что, испытав больше, чем многие мои ровесники, по-прежнему нахожусь в режиме ожидания. Я записался в армию, чтобы повзрослеть. Похоже, мне это удалось, однако иногда я в этом сомневался. У меня не было ни дома, ни машины и ни единой родной души на свете, кроме отца. Мои сверстники гордо носили в бумажниках фотографии жен и детишек, а у меня там хранился единственный выцветший снимок женщины, которую я любил и потерял. Я слышал, как мои солдаты строят планы на будущее, но у меня планов не было. Иногда мне становилось интересно, что подчиненные обо мне думают. Я никогда не рассказывал им о моем прошлом. Они ничего не знали ни о Саванне, ни о моем отце, ни о дружбе с Тони. Эти воспоминания принадлежали мне и только мне, ибо некоторые вещи лучше хранить в секрете.
В марте 2005 года у отца случился второй инфаркт, осложненный пневмонией; папу снова поместили в палату интенсивной терапии. Его вывели из пике и отпустили домой, но назначили лекарства, при которых нельзя садиться за руль. Социальный работник нашел человека, который привозил отцу продукты. В апреле папа снова попал в больницу; с тех пор ему пришлось отказаться еще и от ежедневных прогулок. В мае он принимал уже десяток таблеток в день и большую часть дня проводил в постели. Его почерк стал практически неразборчивым, и не только потому, что папа ослаб: у него теперь сильно дрожали руки. После долгих и настойчивых телефонных уговоров я убедил папину соседку — медсестру из местной больницы — регулярно наведываться к нам и с облегчением вздохнул, когда до июньского отпуска остались считанные дни.
Но состояние отца продолжало ухудшаться. Во время наших созвонов я явственно слышал странную усталость в его голосе. Второй раз в жизни я попросил о переводе домой, и на этот раз командир отнесся к моей просьбе более сочувственно: он даже выбил для меня командировку в Форт-Брэгг для прохождения воздушно-десантного обучения. Но когда я позвонил в больницу, мне сказали, что мое присутствие отцу не поможет и я должен подумать о том, чтобы поместить его в лечебницу-пансионат, подчеркнув, что необходимую отцу помощь в домашних условиях не обеспечить. Лечащий врач уже некоторое время уговаривал своего пациента — к тому времени папа мог есть только жидкие супы — переехать в больницу, но отец наотрез отказывался, пока я не приеду в отпуск. По какой-то причине папа во что бы то ни стало хотел встретить меня дома.
Ситуация казалась слишком трагичной и неожиданной. По пути из аэропорта я убеждал себя, что у врачей есть привычка пугать, чтобы пациенты уважали, однако доктор не преувеличивал: папа даже не смог подняться с дивана мне навстречу. У меня сжалось сердце — за год отец постарел на тридцать лет. Кожа у него приобрела нездоровый пепельный оттенок, и я был поражен его худобой. Горло перехватило, когда я поставил сумку у двери и сипло сказал:
— Здравствуй, пап.
Я боялся, что он не узнает меня, но через минуту услышал прерывистый шепот:
— Здравствуй, Джон.
Я подошел к дивану и присел на край.
Поделиться7924.05.2013 18:48
— Ты как?
— Нормально, — сказал он, и мы долго молчали. Наконец я поднялся сходить посмотреть, что есть на кухне. Войдя, я остановился как вкопанный: повсюду были разбросаны пустые банки из-под супа, плита залита какой-то пригоревшей и уже окаменевшей бурдой, мусорное ведро переполнено, в мойке громоздились заплесневелые тарелки. Маленький кухонный стол завален горой нераспечатанной почты. В доме явно не убирали много недель. Первым побуждением было учинить грандиозный скандал соседке, обещавшей присматривать за отцом, но я это отложил.
Разыскав банку куриного супа с лапшой, я разогрел его на грязной плите, налил в тарелку и отнес отцу на подносе. Он слабо улыбнулся, и я увидел, как он благодарен за эту ничтожную услугу. Он съел все до капли. Я налил вторую тарелку, едва сдерживаясь при мысли о том, что отца, должно быть, давно не кормили. Когда он опустошил и ее, я помог папе снова лечь, и он почти сразу заснул.
Соседки дома не оказалось, и я весь день и вечер драил дом, начав с кухни и туалета. Когда я менял отцу постельное белье и увидел грязные простыни — он ходил под себя, — то несколько секунд постоял зажмурившись, едва сдерживаясь, чтобы не побежать и не свернуть соседке шею.
Наведя в доме относительную чистоту, я вернулся в гостиную и сел, охраняя папин сон. Под одеялом отец казался совсем маленьким, а когда я осторожно погладил его по волосам, несколько прядей остались на подушке. Я заплакал, понимая, что отец умирает. Я плакал впервые за несколько лет и впервые в жизни об отце и долгое время не мог унять слезы.
Я знал, что мой отец — хороший, добрый человек, и хотя жизнь у него оказалась сложная, он приложил все усилия, чтобы меня вырастить. Он никогда не поднимал на меня руку, и я мучился угрызениями совести за все годы, когда вел себя как дурак. Я вспоминал два своих последних отпуска, и на душе было больно при мысли, что эти простые и по-своему счастливые времена миновали.
Позже я отнес отца в кровать, почти не ощутив его веса. Укрыв его одеялом, я устроил себе постель на полу рядом с кроватью, слушая его тяжелую одышку и сиплое дыхание. Посреди ночи папа проснулся от приступа кашля и долго не мог остановиться. Я уже хотел везти его в больницу, но тут кашель наконец прекратился.
Отец пришел в ужас, узнав, куда я хочу его отвезти.
— Останусь здесь, — молил он слабым голосом. — Не хочу ехать.
Раздираемый тревогой и жалостью, я все же решил не класть его в больницу. Для человека раз навсегда заведенного порядка больница была не только чужим, но опасным местом, привыкание к которому потребует больше сил, чем у отца осталось. В этот момент отец снова запачкал простыни.
На следующий день зашла соседка и с порога принялась извиняться. У нее заболела дочь, и она несколько дней не убирала в кухне, но до того ежедневно меняла отцу постель и следила, чтобы в кухне всегда был запас консервированного супа. Мы стояли на крыльце; при виде усталого лица пожилой женщины слова заготовленных упреков забылись сами собой. Я сказал, что очень благодарен ей за заботу и что она и так сделала больше, чем могла.
— Рада была помочь, — сказала она. — Ваш отец много лет был сама любезность. Никогда не жаловался на шум от моих детей, пока они росли, и всегда покупал у них все, что они продавали, когда им нужно было выручить денег для школьных экскурсий. Он поддерживал во дворе порядок, приглядывал за домом, если я просила. Всегда готов был прийти на помощь. Отличный сосед…
Я улыбнулся. Ободрившись, она продолжила:
— Только, знаете, он ведь не всегда меня впускает. Говорит, ему не нравится, где я кладу вещи. Или как убираю. Или что я передвинула стопку почты на его столе. Обычно я не обращала внимания на его ворчание, но иногда, когда ему становилось лучше, он ни в какую меня не впускал и даже угрожал полицией, если я пыталась войти. Я просто не знала…
Она замолчала, и я закончил за нее:
— Не знали, как поступить. Женщина стояла с виноватым видом.
— Ничего, — сказал я. — Без вас вообще не знаю, что бы он делал.
Она с облегчением кивнула и потупилась.
— Хорошо, что вы вернулись, потому что я хотела переговорить с вами о сложившейся ситуации. — Она смахнула с одежды невидимую ворсинку. — Я знаю отличное место, где о нем позаботятся. Персонал превосходный. Мест там практически не бывает, но тамошний директор — мой знакомый, к тому же он знает лечащего врача мистера Тайри. Понимаю, как тяжело это слышать, но для вашего папы это самое лучшее, и я считаю…
Она не договорила. Я видел, что эта женщина искренне желает отцу добра, и уже открыл рот для ответа, но не сказал ничего. Предлагаемый выход был вовсе не таким простым, каким казался. Дом был единственным местом, где отец освоился за жизнь, где ему было комфортно, где его раз навсегда заведенный порядок имел какой-то смысл. Если даже перспектива недолгого пребывания в больнице приводила его в ужас, то необходимость обживаться на новом месте его попросту убьет. Однако вопрос заключался не в том, где он умрет, а скорее в том, как умрет — в одиночестве в пустом доме, на испачканной мочой и испражнениями постели, изголодавшийся и истощенный, или среди людей, которые будут кормить и мыть его, пусть даже в непривычной, незнакомой обстановке?
С дрожью в голосе, которую не удалось подавить, я спросил:
— Где находится лечебница?
Следующие две недели я провел, ухаживая за отцом. Я кормил его как можно лучше, читал ему «Бюллетень нумизмата», когда он бодрствовал, и спал на полу рядом с его кроватью. Каждый вечер он пачкал постель, пока я, к вящему папиному смущению, не купил памперсы для взрослых. Большую часть дня отец спал.
Пока он отдыхал на диване, я объехал несколько пансионатов, находившихся в пределах двух часов езды на машине. Заведение, о котором говорила соседка, оказалось чистым, персонал состоял из профессиональных медиков, а директор даже проявил личный интерес к случаю моего отца (было то благодаря протекции соседки или папиного лечащего врача, я так и не узнал).
О цене я не задумывался. Лечебница славилась своей дороговизной, но у отца была государственная пенсия, социальная и медицинская страховки, да еще индивидуальная страховка (не исключаю, что в свое время папа расписался на пунктирной линии страхового полиса, не вполне понимая, за что платит), и меня заверили, что «спасибо» им вполне достаточно. Директор пансионата, мужчина лет сорока с каштановой шевелюрой, своей обходительностью напомнивший мне Тима Уэддона, вник в ситуацию и не настаивал на немедленном решении. Вручив мне ворох информационных буклетов и разнообразных документов для заполнения, он попрощался и пожелал отцу здоровья.
Вечером в разговоре с отцом я поднял тему переезда в лечебницу. Выбора у меня не было: через несколько дней предстояло отбыть в Германию, и остаться я не мог, как ни хотел.
Папа молчал, пока я излагал суть дела. Я приводил тщательно обдуманные доводы, говорил, что тревожусь за него, и выражал надежду, что он поймет. Отец не задал ни одного вопроса, но в его широко раскрытых глазах застыл ужас, словно ему зачитали смертный приговор.
Поделиться8024.05.2013 18:49
Я едва смог договорить. Ласково потрепав папу по ноге, я вышел в кухню налить себе стакан воды. Вернувшись в гостиную, я остановился как вкопанный — папа сидел на диване, спрятав лицо в ладонях, и его опущенные плечи вздрагивали. Впервые в жизни я видел, как отец плачет.
Утром я начал собирать папины вещи, вынимая их из комода и шкафов — одежного и встроенного. В отделении для носков лежали исключительно носки, на полке для рубашек — только рубашки. В секретере все было подписано, снабжено ярлычками и расставлено или разложено в строгом порядке. В отличие от подавляющего большинства обитателей Земли у отца не оказалось никаких секретов — ни тайных пороков, ни дневников, ни постыдных увлечений, ни коробки с памятными вещичками, ценными только для владельца. Я не нашел ничего, проливавшего свет на его внутреннюю жизнь, ничего, что помогло бы мне понять отца после того, как его не станет. Тогда я понял, что папа был именно тем, кем казался, и я восхищаюсь им за это.
Когда я закончил сборы, папа лежал на диване, но не спал. После нескольких дней регулярного питания к нему вернулись некоторые силы, а в глазах появился слабый блеск. Я заметил прислоненную к столу лопату. Сильно дрожащей рукой папа протянул мне клочок бумаги с каким-то рисунком, напоминавшим наскоро нацарапанную карту, и подписью «Задний двор».
— Для чего это?
— Это твое, — сказал папа и указал на лопату.
Я взял лопату, пошел, согласно карте, к дубу, росшему на заднем дворе, отсчитал шаги и начал копать. Через минуту лопата наткнулась на что-то металлическое. Это оказался ящик, под ним другой, еще один сбоку — всего шестнадцать тяжелых металлических ящичков. Усевшись на крыльцо, я вытер с лица пот и открыл первую из находок.
Я уже знал, что найду, и сощурился от яркого блеска золотых монет, засиявших под ослепительным южным солнцем. На дне коробки я нашел пятицентовик 1926 года с головой быка, который мы с отцом вместе искали и нашли, — единственную монету, которой я дорожил.
Накануне отъезда я сделал последние распоряжения по хозяйству: отключил домашние электроприборы, договорился о переадресации корреспонденции и поливке газона. Сняв в банке ячейку-сейф, я положил туда выкопанные монеты. На это ушла большая часть дня. Потом мы разделили последнюю банку куриного супа с лапшой и разварные овощи, и я отвез отца в лечебницу. Там я распаковал его вещи, украсил комнату по папиному вкусу (насколько я его понимал) и выложил под стол выпуски «Бюллетеня нумизмата» за десять лет. Однако этого мне показалось недостаточно. Объяснив ситуацию директору лечебницы, я съездил домой и привез ворох всяких мелочей, жалея, что мало знаю своего отца, но постаравшись выбрать дорогие ему вещицы.
Несмотря на мои уговоры, папа по-прежнему сидел, оцепенев от страха, и вид его широко распахнутых от ужаса глаз надрывал сердце. Я то и дело отгонял мысль, что убиваю отца. Я сидел рядом с ним на кровати, зная, что через несколько часов нужно ехать в аэропорт.
— Пап, все будет хорошо, — повторял я. — Здесь о тебе будут заботиться.
Его руки дрожали по-прежнему.
— О’кей, — сказал он едва слышно. На мои глаза навернулись слезы.
— Пап, я хочу тебе кое-то сказать. — Я глубоко вздохнул, собираясь с мыслями. — Ты должен знать, что ты самый лучший папа на свете. Только прекрасный отец мог ужиться с таким засранцем, как я.
Папа не ответил. Мы сидели в тишине, и я чувствовал, как рвутся наружу давно копившиеся признания, слова, к которым я шел всю жизнь.
— Я говорю правду, пап. Ты уж прости меня, что я себя так дерьмово вел, уделял тебе мало внимания. Ты самый лучший человек из всех, кого я когда-либо знал. Ты единственный никогда не сердился на меня, не судил мои поступки и каким-то образом научил в жизни большему, чем любой сын может желать. Я никак не могу сейчас остаться. На душе у меня очень скверно, что я с тобой так поступаю, но я боюсь за тебя, пап, и не знаю, как быть иначе.
Словно со стороны я слышал свой голос, ставший вдруг хриплым и неровным, и ничего так не хотел, как почувствовать на плечах папину руку.
— О’кей, — наконец сказал он. Я невольно улыбнулся.
— Пап, я тебя люблю.
На это отец всегда знал, что ответить, ведь это было частью заведенного порядка.
— Я тебя тоже люблю, Джон.
Я крепко обнял отца, поднялся и подал ему свежий выпуск «Бюллетеня». Дойдя до двери, я обернулся.
Впервые после приезда в лечебницу папа немного успокоился. Он поднес листок поближе к глазам и начал читать, шевеля губами. Я долго-долго смотрел на отца, стараясь до мельчайших черточек запомнить дорогой мне образ.
Это был последний раз, когда я видел отца живым.